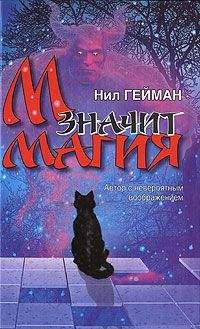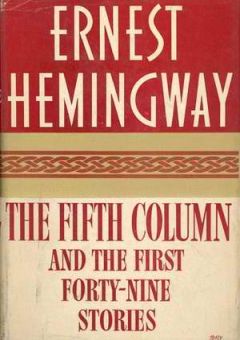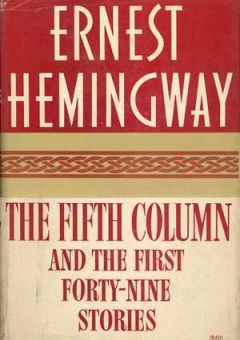Нил Гейман - М - значит магия
На обочине я заметил камешек, почти вросший в землю. Я поднял его и счистил грязь. На запекшейся фиолетовой поверхности появился странный радужный отблеск. Я сунул его в карман пальто и держал в кулаке, шагая дальше, и это утешало и грело душу.
Река устремилась в сторону, через поля, а я молча шел по тропу.
Я шел еще примерно с час, и потом увидел дома на насыпи - новые, маленькие, приземистые.
А потом я увидел мост, и понял, где я: на старых путях, только я пришел сюда с другой стороны.
На опоре моста виднелась надпись «Барри любит Сьюзан», и вездесущая эмблема «Национального фронта».
Я стоял под мостом, под аркой красного кирпича, посреди оберток от мороженого и пакетиков из-под чипсов, и смотрел, как мое дыхание паром разносится в морозном вечернем воздухе.
Штанина присохла к разодранной в кровь ноге.
Над головой, по мосту, проезжали машины: я слышал, как в одной громко играло радио.
– Эй, - негромко позвал я, чувствуя себя неловко, глупо. - Эй!
Ответа не было. Ветер шевелил мусор и листья.
– Я вернулся. Я сказал, что вернусь. И вернулся. Эй!
Тишина.
Стоя под мостом, я заплакал, глупо, безмолвно всхлипывая.
Рука коснулась моего лица, и я поднял глаза.
– Не думал, что ты вернешься, - сказал тролль.
Теперь мы с ним были одного роста, но в остальном он не изменился. В длинных нечесаных волосах были сухие листья, а в глазах - тоска и одиночество.
Я пожал плечами, и вытер лицо рукавом пальто.
– Я вернулся.
По мосту, один за другим, пробежали трое мальчишек, что-то громко вопя.
– Я тролль, - тихо, испуганно прошептал тролль. - Фи-фай-фе-фоль.
Он дрожал.
Я протянул руку и пожал его огромную когтистую лапу. И улыбнулся.
– Ну и хорошо, - сказал я ему. - Честно. Хорошо.
Тролль кивнул.
Он опрокинул меня на землю, на кучу листьев и мусора, и улегся прямо на меня. Потом он поднял голову, и открыл рот, и съел мою жизнь, впившись в нее крепкими острыми зубами.
Когда тролль закончил, он поднялся и отряхнул одежду. Он сунул руку в карман пальто и вытащил оплавленный, запекшийся кусок шлака.
Он протянул его мне.
– Это тебе, - сказал тролль.
Я глядел на него: он стоял, полный моей жизни, чувствуя себя в ней легко и удобно, словно все эти годы она принадлежала ему. Я взял камешек из его пальцев, и понюхал его. Он все еще пах паровозом, с которого упал столько лет назад. Я плотно сжал его в своем волосатом кулаке.
– Спасибо, - сказал я.
– Желаю удачи, - сказал тролль.
– Да. Ладно. Тебе того же.
Тролль ухмыльнулся моей ухмылкой.
Он повернулся ко мне спиной и пошел обратно по тому пути, которым я пришел сюда, обратно в деревню, обратно в пустой дом, из которого я ушел сегодня утром, и он что-то насвистывал по пути.
С тех пор я здесь. Прячусь. Жду. Я часть моста.
Я смотрю из тени, как мимо идут люди: как они выгуливают собак, беседуют, занимаются своими делами. Иногда люди заходят ко мне под мост - просто постоять, помочиться, заняться любовью. Я смотрю на них, но ничего не говорю, и они никогда не замечают меня.
Фи- фай-фе-фоль.
Я здесь и останусь, в темноте, в арке под мостом. Я слышу всех вас, я слышу, как вы ходите - топ-топ - по моему мосту.
Я слышу вас.
Но не выйду.
НЕ СЛУШАЙ ДЖЕКА
Никто не знал, откуда взялась эта игрушка, чьей прапрабабушке или троюродной тетке она принадлежала прежде, чем попала в детскую.
Ящичек, резной, раскрашенный красной и золотой краской, был, без всякого сомнения, красивой и, по крайней мере, по словам взрослых, весьма ценной вещью - может быть, даже антикварной. Увы, защелка проржавела и не открывалась, ключ был давно утерян, так что чертик Джек не мог из него освободиться. И все равно - ящик был замечательный: тяжелый, резной, с позолотой.
Дети с ним не играли. Он покоился на дне огромного дощатого короба для игрушек, размером с пиратский сундук и такого же старого. По крайней мере, так казалось детям. Ящик Джека был похоронен под грудами кукол, поездов, клоунов, бумажных звезд и сломанных приспособлений для фокусов, увечных марионеток с безнадежно перепутавшимися нитями, маскарадных костюмов (тут остатки подвенечного некогда платья, а там помятый цилиндр, жертва несчетных лет), украшений для платьев, сломанных обручей, волчков и деревянных лошадок. И под всеми ними прятался ящик Джека.
Дети с ним не играли. Они шептались между собой, оставаясь одни в детской на чердаке. В ненастные дни, когда ветер свистел над крышей дома, и дождь барабанил по кровле и стучал по карнизам, они рассказывали друг другу истории про Джека, хотя никогда не видели его. Кто-то уверял, что Джек - злой волшебник, которого посадили в ящик в наказание за неописуемо тяжкие преступления; кто-то (скорее всего, одна из девочек) считал, что ящик Джека на самом деле - ящик Пандоры, а Джека туда посадили, чтобы он охранял его и не давал скрытым в нем бедам снова вырваться на свободу. Дети старались даже не притрагиваться к ящику, хотя всякий раз, когда кто-нибудь из взрослых вспоминал, что давно не видел славного старого джека-в-коробке, доставал его и водружал ящичек на каминную полку, они долго набирались храбрости и снова прятали его в темноту короба для игрушек.
Дети не играли с Джеком. А когда они выросли и уехали из старого дома, детскую комнату закрыли и почти забыли о том, что она там была.
Почти, но не совсем. Ведь каждый из детей, сам по себе, помнил, как поднимался в синем лунном свете в детскую, ступая по лестнице босиком. Это было словно во сне: ноги беззвучно ступали по деревянным ступеням, по вытертому почти до дыр ковру на полу детской. Каждый из них помнил, как открывал сундук с сокровищами, как рылся в куче кукол и старого тряпья и доставал ящик Джека.
А потом трогал защелку, и крышка поднималась, медленно, словно солнце над горизонтом, и слышалась музыка, и появлялся Джек. Не выпрыгивал вдруг: этот Джек был не из тех, что сидят на пружинке. Он медленно, аккуратно поднимался над краем ящичка и делал ребенку знак наклониться поближе. Еще ближе. И улыбался.
И потом, в лунном свете, он рассказывал каждому из них истории, которые они потом никак не могли точно вспомнить, и которые никак не могли навсегда забыть.
Старший брат погиб на Первой мировой войне. Младший после смерти родителей унаследовал дом, но его лишили наследства, потому что однажды ночью застали на чердаке с канистрой керосина в руках, когда он пытался спалить дом дотла. Его поместили в лечебницу для умалишенных. Может быть, он там до сих пор.
Остальные дети, когда-то бывшие девочками, а теперь ставшие женщинами, отказались, все вместе и каждая по отдельности, возвращаться в дом, в котором они выросли. Окна дома заколотили досками, двери заперли на огромный железный ключ, и сестры приезжали в него не чаще, чем на могилу старшего брата или на свидания с тем, что когда-то было их младшим братом, то есть никогда.