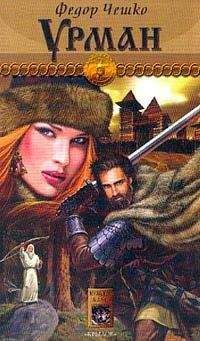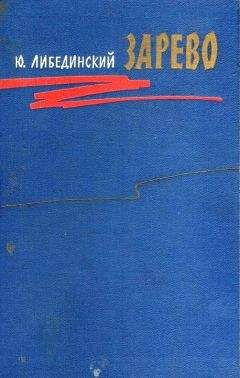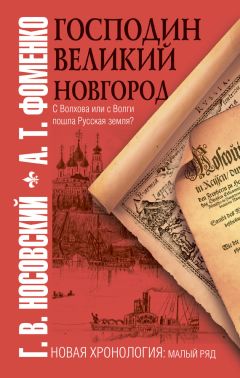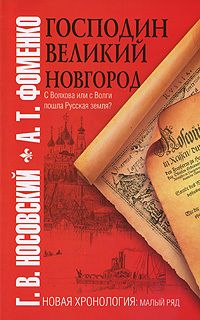Федор Чешко - Ржавое зарево
Оставалось надеяться на уменье нутром чуять опасность, да еще на то, что Кудеславов отъезд для Белоконя действительно окажется внезапным и тайным. Но даже если и так, утром-то хранильник непременно заметит отсутствие Кудеслава, а тому еще возвращаться…
Снаружи оказалось неожиданно холодно и влажно. Небо было вроде бы ясным, звездным, но в воздухе висел легкий туман — не туман даже, а прозрачная дымка, мельчайшая водяная пыль.
Вышагнув из прогретого жарким конским дыханьем сарая, Кудеслав почувствовал, как дубеют от сырости кожаные штанины и голенища сапог, как промозглый ветерок сочится сквозь истертый косулий тулуп и рубаху, пробирая мелкой противной дрожью не успевшее отвыкнуть от теплого ложа тело. А лишь несколько мгновений назад подумалось, что без доспеха не стоило и поддоспешный тулуп надевать: ночью-де об эту пору можно перебиться и без него, а днем непременно взопреешь. Перебиться… Небось околел бы, перебиваючись…
А вот ильменка вовсе поленилась обременяться одеждой и теперь дробно цокотала зубами да изо всех сил прижималась к лошадиному боку.
— Иди грейся — застудишься! — сиплым шепотом вымолвил Мечник, принимая повод из ее крепко стиснутого трясущегося кулачка.
Вместо ответа Векша отчаянно замотала головой, и ее короткие рыжие волосы на миг показались Кудеславу темным пламенем, мечущимся под неистовым ветром.
Ильменка перехватила Мечников взгляд, шмыгнула носом.
— Медленно… — Она испуганно оглянулась на плотно затворенные ставнями избяные окна и сбавила голос до еле слышного бормотания: — Медленно растут. Знаешь, как без нее плохо? Будто вовсе без головы…
«Без нее» — это, стало быть, без косы. Векшины волосы, обрезанные волхвом в попытке преобразить свою купленницу в парнишку, действительно успели отрасти всего-навсего до половины шеи. Так ведь и времени минуло немного… Кстати сказать, Мечнику не очень-то хотелось, чтобы они отрасли. Ему и так нравилось.
Понимая, что самый простой способ угнать ильменку с холода — это поскорее уехать, Кудеслав нащупал ногою стремя и вскинулся в седло. Кобыла недовольно прянула, но он вразумил ее, стиснув бока коленями, и собрался было трогаться, как вдруг Векша опять вцепилась в уздечку.
Вцепилась и прошептала, снизу вверх заглядывая в Мечниковы глаза:
— Ты почему бездоспешным едешь?
— А на кой мне доспех-то? — очень правдоподобно изумился Кудеслав.
Ильменка попыталась что-то сказать — не вышло. Видать, вконец пронял ее холод, и вместо шепота получилась совершеннейшая невнятица, мешанина из заиканий да перестука зубов. Снова пришлось Векше притиснуться грудью к горячей кобыльей шерсти.
Через миг-другой Мечник, перегнувшись с седла и почти касаясь ухом бледных дрожащих ильменкиных губ, сумел наконец разобрать:
— Плохая… Плохая ночь. Чувствую что-то. Не пойму что, только плохое оно. Надень доспех, а?
— Нет уж! — Кудеслав легонько дернул Векшу за взъерошенные волосы. — И так мы с тобою лишь дивом еще никого не разбудили. А тут в сарай, да из сарая, да снова в седло, да железом греметь… Ничего, воин не доспехом силен. Ты лучше себя обереги.
— Оно не для меня… — выговорила ильменка, с досадой отстраняясь от Мечниковых пальцев, рассеянно балующихся ее вихрами. — Ну, это… Которое невесть что… Оно для тебя. Не ездить бы тебе, переждать…
— Пустое, — хрипло перебил ее Кудеслав.
Перебил и запнулся. Потому, что понял: Векшу ему не успокоить, ибо для этого бы нужно сперва успокоить себя.
Он тоже чувствовал небывалое. Он, Мечник, воин, навидавшийся всяческих видов, сын могучего кудесника, наделенный толикой отцовой ведовской силы, выученик — хоть и не шибко удалый — своего стрыя, отцова брата, охотника, к которому чаща-матушка и впрямь по-матерински доверительна да благосклонна… Так вот он, Кудеслав Мечник, будучи всем перечисленным, оробел перед ночным лесом.
Оробел нешуточно, до озноба.
Как дитя малое.
Может, и впрямь следовало переждать; возможно, он дал бы себе эту потачку (хоть только лишь боги ведали, не повторится ли такое следующей ночью и теми ночами, которые настанут потом). Однако Мечнику подумалось: стыдный, прежде неведомый страх может быть насланием Белоконя — именно чтоб задержать. Эта мысль, да еще вполне справедливая уверенность, будто откладывание поездки помешает сохранить ее (поездку то есть) в тайне, все и решили.
И Векша тоже поняла, что он уже все решил и что его не остановить, а потому разом оборвала невнятные уговоры («День всего пережди… пожертвовал бы Роду, и Навьим, и Лесному Деду… а я бы пока оберег — вместо того, который ты Велимиру…»).
Умолкнув на полуслове, она чуть отступила, съежилась, обхватила руками голые плечи. И Мечник толкнул лошадиное брюхо задниками мягких сапог.
Перед тем как принудить кобылу к прыжку через ограду, Кудеслав обернулся. Векша и не подумала уйти в тепло — стояла, где стояла, все так же ежась и тиская ладонями плечи. Расстояние до нее было уже изрядным, и все же Мечник, не задумываясь, поклялся бы чем угодно: ильменка что-то шепчет ему вослед.
«Что-то»…
Наверняка это «что-то» было охранительным наговором.
И хоть проку Векшино шептание сулило немногое (какой уж тут прок, ежели неведомо, от чего охоронять?!), Кудеславу сделалось легче.
* * *Туман сгущался. Длинные, пахнущие пронзительной сыростью космы теряли прозрачность, тяжелели, оседали к обесцвеченной звездным светом траве.
Свет…
Казалось, его рождают не звезды, а именно эти рои несметных водяных капель, похожие на зацепившиеся за подножья деревьев седые пряди — будто бы ужасающего роста великан вздумал мести лес бородою, да всю ее изодрал-повыдергал о сучья, пни да валежины.
Лес впрямь был словно выметен. Верней сказать так: лес был словно бы неживым.
Лес молчал.
Не то что зверье да ночные птицы — даже комары «уда-то пропали; даже ветер, не на шутку разгулявшийся было с вечера, затих, и деревья стыли в пугающей каменной неподвижности. Ни шороха, ни единого шевеленья листвы, обернувшейся холодным чищеным серебром. Лишь плавное оседание густеющих поволок, сотканных из влаги, седин да хворостьного озноба; лишь топот копыт Мечниковой лошади — вот и все.
Все…
Да, именно так: все было в ту ночь необычным, а потому пугающим. Однако больше, чем свет, как бы не имеющий отношения к ясной звездности неба; чем холодная влага, которая решила подменить собою воздух; чем даже беззвучная оцепенелость леса — больше, чем что бы то ни было, пугал Кудеслава он сам.
Наверное, до сих пор сказывался жестокий ушиб, доставшийся ему во время схватки-расправы с поплечниками Яромира. Наверняка сказывались и тягостные переживания последних дней. Да еще вдобавок промозглая мокреть и самая обычная сонливость…