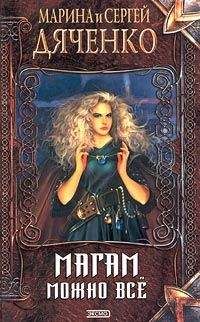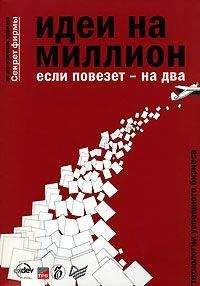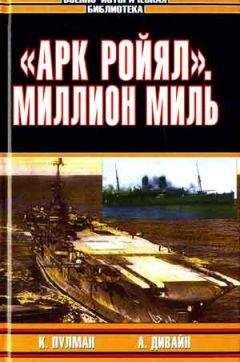Марина Дяченко - Магам можно все (сборник)
Один брат Ила — запамятовал, как его звали — в возрасте двенадцати лет сбежал из дома с бродячим цирком, и больше о нем никто никогда ничего не слышал. Другой вырос тихим молчаливым юношей, с виду вроде бы нормальным, но превыше всех развлечений ставившим наблюдения за струйкой воды из насоса. Он мог смотреть на воду часами и сутками, и лицо у него при этом становилось мягким, будто из воска, и в уголках рта скапливалась слюна… Прислуга втихаря насмехалась над младшим Ятером и приклеила ему кличку «Фонтан».
Теперь, если наследство уйдет от Ила — его суждено получить Фонтану.
…Старик Дол де Ятер стоял посреди залы, и мне почему-то показалось, что он стоит все там же, где его оставил Ил. Что за время, пока сын отсутствовал, он не сделал и шага.
— Батюшка, — сказал Ил, и голос его дрогнул. — Наш сосед, господин зи Табор хотел выразить свою радость по поводу вашего внезапного возвращения.
Старик молчал.
Фамильная черта Ятеров — никогда не терпеть перекора ни в чем — сочеталась в старом бароне с нежной любовью к жене и детям. Эту любовь он без устали провозглашал на пиру и на охоте, открывал знакомым и незнакомым, аристократам и землепашцам. Он искренне считал свою жену красавицей, расхваливал ее перед друзьями и покупал ей дорогие украшения; если же супруге случалось провиниться (не вовремя раскрыть рот либо опоздать, когда барон изволили ждать ее) — следовало неминуемое и решительное наказание. Несчастная баронесса, мать Ила, не дожила и до сорока — после ее смерти старый Ятер убивался искренне, долго и тяжело.
Все та же фамильная черта Ятеров обнаружилась в Иле сразу после утверждения его главой семьи, и обнаружилась так, что ни чадам, ни домочадцам мало не показалось. Жена его, когда-то румяная и шумная, сократилась до полупрозрачного состояния и низвелась на положение мышки. Дочерей не было ни видно, ни слышно, а единственный сын время от времени проливал горькие слезы, будучи привязан уздечкой к старинной парте красного дерева.
— Батюшка… — пробормотал Ил в третий раз.
Я подошел к окну и осторожно приподнял штору.
Солнечный луч пробился сквозь толчею пылинок, отразился от плитки пола и придал почти живое выражение стеклянным глазам давно поверженного кабана.
Разглядев лицо отца, Ил де Ятер издал невнятный возглас. А я понял наконец, в чем причина невнятного беспокойства, холодным комочком поселившегося у меня внутри.
Закрепив штору золотым шнуром, я снова пересек залу и остановился прямо перед воскресшим бароном.
На меня — сквозь меня! — смотрели белые глаза безо всякого выражения. Да, с перепугу этот взгляд можно было спутать с взглядом, исполненным крайнего бешенства, и я догадываюсь, каково пришлось Илу в первые минуты встречи.
Я поводил рукой перед неподвижным лицом старика. Глаза глядели в одну точку. Зрачки не расширялись и не сокращались.
— Ил, — услышал я собственный спокойный голос. — Можешь звать жену и слуг… а можешь не звать. Укрытая от посторонних глаз каморка, немая сиделка, частая смена белья и постели — вот все, что потребуется тебе для исполнения сыновнего долга.
Дружок моего детства долго молчал, переводя взгляд с моего лица на лицо старого барона. Потом резко отошел в темный угол и опустил голову на руки; непонятно, чего было больше в его позе, горя или облегчения.
Повернув голову, я встретился взглядом с оленьей головой, выраставшей, казалось, прямо из стены. По печальной морде путешествовала одинокая моль.
— Где же он был? — глухо спросил молодой Ятер. — Где он был почти два года? Откуда?..
Я разглядывал равнодушного старика, все так же неподвижно стоявшего посреди зала.
Я его не узнавал.
Лет пятнадцать назад это был нестарый добрый сосед, таскавший меня на плечах, обожавший бои на деревянных секирах и по первому требованию демонстрировавший славный фамильный меч, который, бывало, сносил по две-три вражьи головы за один удар. Помнится, я еще удивлялся — почему Илов папа, со мной приветливый и покладистый, так жесток к собственному сыну? И, помнится, приходил к однозначному выводу: потому что я лучше Ила. Умнее, храбрее, вот сосед и жалеет, что туповатый Ил его наследник, а не я…
Было время, когда «дядюшка Дол» казался мне ближе, чем собственный отец. Немудрено — отец в те годы сильно сдал, смерть матери и мои бесконечные детские болезни подкосили его, у него не было ни времени, ни сил на игрища с мечами и палками, а конфеты он полагал вредными для зубов; потом я повзрослел, и дружеская связь с соседом ослабла, а с отцом наоборот — окрепла, однако первым, кто пришел утешить меня после смерти отца, был все-таки дядюшка Дол…
Тогда мне было пятнадцать. Сейчас — двадцать пять; последние десять лет мы совсем не общались. Я знал от Ила, что характер его отца с приходом старости испортился донельзя. Я был посвящен в темную историю с его исчезновением; я тихо радовался, что безумный старик, застывший посреди охотничьего зала, почти не похож на того дядю Дола, которого я когда-то любил.
— Откуда он явился? — с отчаянием повторил молодой Ятер. — А, Хорт?
Усилием воли я отогнал ненужные воспоминания. Темное платье стоящего передо мной старика было неново и нуждалась в чистке — тем не менее он не производил впечатления человека, долго и трудно добиравшегося до родного дома, пешком бредшего через поля и леса. Для верховой же езды его костюм и особенно башмаки не годились вовсе.
— Смотри, Хорт… — прошептал Ятер, но я и так уже заметил.
На шее у старика поблескивала, прячась в складках просторного камзола, цепь из белого металла. На цепи висел кулон — кажется, яшмовый.
— Ты помнишь эту вещь у отца? — спросил я, заранее зная ответ.
— Нет, конечно, он не носил ничего такого, — отозвался Ил с некоторым раздражением. — Не любил цацек. Ни серебра, ни камня — в крайнем случае золото…
Ил протянул руку, желая рассмотреть кулон поближе. Протянул — и отдернул; несмело заглянул старику в лицо. Я понимал его сложные чувства; ему трудно и страшно было осознать, что его отец, столько лет наводивший страх одним своим присутствием, превратился теперь в живую куклу.
Кулон, которого я коснулся до безобразия беспечно, тут же преподнес мне первый неприятный сюрприз.
Вещь была явно магического происхождения.
Из большого куска яшмы неведомый искусник вырезал морду некой злобной зверушки — отвратительную, оскаленную, мутноглазую морду. И присутствие этой морды на груди обезумевшего барона явно имело какой-то скрытый смысл.
* * *Слуга Пер родился под счастливой звездой — его труп так и не всплыл во рву. Вместо этого Перу повысили жалование, подарили совсем еще новый камзол и посвятили в тайну: отныне верный слуга должен был обслуживать немощного безумца, помещенного в дальнюю коморку. Имя старого барона произносить (или просто вспоминать) запрещалось; слугам и домочадцам было объявлено, что на иждивение к де Ятеру поступил престарелый отец Пера, что он болен заразной болезнью и потому всякий, кто заглянет в коморку или хотя бы приблизится к ней, будет бит плетьми и клеймен железом. (Тяжесть обещанного наказания явно не вязалась с придуманной Илом легендой, но барона это совершенно не заботило. Обитатели фамильного гнезда давно были вышколены до полной потери любопытства).