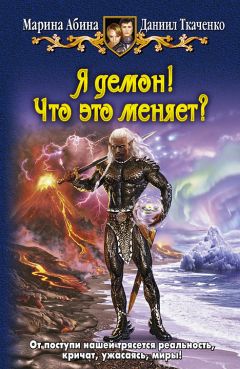Юлия Барановская - Мгла
— А что ты думаешь обо мне?.. — Всё ещё не веря своим ушам, наконец, спросила я.
— Слава богине, скоро отмучаемся. Надоела, сил нет. — Отрапортовала рыжая, глядя на меня круглыми от ужаса глазами. — Мало того, что бесноватая, так ещё и по мужикам по всей ночи шляешся. Слава пресветлой, просватали куда подальше. Там-то тебе самое место, — злорадно провозгласила она, пытаясь заткнуть рот широкими, натруженными ручищами.
— Что сделали? — Поразилась я.
— Просватали. Парашка слышала, как храмовник с утра к твоим несчастным папаше и мамаше приходил, руки твоей требовал. Папаша сразу согласие дал, а мамаша порыдала-покричала, да и её уломали. Только кольцо велела оставить, сестрице твоей в откуп. — Короткие пальцы зажимали рот, но слова лились нескончаемым потоком, а я лишь крепче сжимала зубы, понимая, как правы были мои графы — единственные, кто был со мной честен. — Сестрица-то твоя, как узнала, что кольцо тебе досталось — покой и сон потеряла. Так твоей мамаше и сказала: почто этой кукле колечко мое отдала? Не придут к ней хранители — куда ей богов возвращать, она и себе-то помочь не может.
Поняв тщетность своих усилий, рыжая бросилась к двери, но было остановлена мной, жестоко рванувшей за толстые косищи, и прорычавшей не хуже давешнего волка:
— Какие хранители? Сама сказала, что я бесноватая! Говори, а то без глаз останешься! — в руке моей будто по волшебству возник столовый ножик, а в голосе зазвучали жесткие, незнакомые мне самой интонации.
Девица всхлипнула, и залепетала с диким, почти суеверным ужасом глядя на нож в моей руке:
— Старших богов. У них камень красный да камень белый должны быть.
— Что за камни? — Не отставала я.
— Не знаю, ваша милость, не знаю… — Проскулила явно пораженная такими метаморфозами девка, а я продолжала, наматывая косу на исцарапанную руку.
— Что там с моей сестрой?
По пухлым, разом побелевшим щекам побежали слезы, а искусанные губы все говорили и говорили, вгоняя ножи, куда солиднее моего, мне в сердце.
— Знамо дело. Как тебя принесли, она все просила тебя к храмовникам отправить, да родители не соглашались. Мол, кровинушка, дочка. А её милость злилась. Потом, как поняла, что ты, что дите малое, развеселилась. Как с кутенком играла, да больно быстро ты выросла. Уж она графов проклинала, что тебя сманили… А как перстень увидала, так и вовсе чисто зверь стала. Кричала-кричала, да толку-то. Ох, она тебя проклинала, кем только не называла. Твоя матушка ей за это губу разбила — рука-то у неё тяжелая. Ударила и говорит, ты, приживалка, нашими добродетелями только и выросла, не про тебя то колечко, молчи, если обратно не хочешь. Сестрица твоя замолчала, да сразу батюшке жаловаться — змея она змея и есть.
Я уже не знала, чьи слезы бегут по щекам испуганной служанки её — или мои, падающие из глаз бесконечным потоком… А рыжая говорила, заворожено глядя на лезвие ножа, дрожащего в моих руках:
— Батюшка, ваш рассвирепел как всегда, все своего ублюдка жалеет, да с твоей матушкой поругался. А та знай свое твердит: отправлю твою нагулянную к бабке в хлев, пущай гусей пасет. А тот как закричит, моя мол, нагульная, а твоя — гулящая. А ваша матушка как глянет на него. У Груши, которая это и подслушивала, чуть Кондратий не случился, а твоя маменька глаза сощурила, да как спросит у папаши вашего: «И в кого, муж ты мой разлюбезный?». А тому и сказать нечего…
— Почему?.. — Только и спросила я, понимая, что мой мирок рушиться на глазах, но даже не пытаясь удержать его от разрушения.
— Знамо дело. — Шмыгнула конопатым носом рыжая. — После того, как твою сестрицу на стороне нагулял, да как полюбовница его в родах померла, сюда привез. Тоже мне Элоиза. Лушка она. Может и с благородными воспитывалась, да кровь мамашину не утаишь. Вот ваш батюшка и смолчал. Надо, говорит, её храмовникам отдать, пока чего не вышло. А мать — в слезы. Ему-то с ней спорить не с руки, вот он и предложил: коль просватает тебя кто, за него и отдать. А коль нет, и ты не успокоишься — в послушницы постричь. Мать спорить не стала, согласилась. Думала, видно, удержать — приластить. Да ты ж бесноватая. Ходишь за графьями, как присушенная. Ваш батюшка уже и с монахинями договорился, оттого и сестрица подобрела. А сегодня с утра приходит к нему храмовник и говорит мол, по нраву моему господину дочь твоя старшая, отдавай её. А то граф тебя за твоего выкормыша да этих чернокнижников проклятых, со свету сживет. Вот ваш папаша и согласился. — Казалось, мне уже нечему удивляться и все плохого, что могло со мной произойти — произошло. Но оказалось, дурные вести впереди… — Мать твоя и кричала, и угрожала, и девку его со стены сбросить обещала — а делать нечего… — Шмыгнула опухшим носом служанка. — С графом Эрвудом не поспоришь.
— С кем? — Ужаснулась я. И спросила, уверенная, что и для него найдется пара слов у плененной мной служанки: — Что про него скажешь?
— Эрвудом. — Послушно повторила печально знакомое имя рыжая, и зачастила, испугавшись, видимо каких-то метаморфоз на моем лице. — Злой человек, страшный. У Игната жену по его приказу запытали, у Микли-кузнеца дочь. Рассказывают, что он кровь пьет да в зверя лесного обращается, оттого-то он охоту на людей устраивает, собаками травит, а тарелки у него из их черепов…
Жуткие истории про своего новоявленного суженного я уже слышала от дворовой челяди, а потому прервала дрожащую от ужаса девку, спросив, заглядывая в поддернутые слезливой дымкой глаза:
— Ты ведь понимаешь, что обо всем произошедшем надо молчать?
В моей руке сверкала сталь, губы были сжаты в тонкую полосу, а сама я, обладала какой-то бесовской, с точки зрения селян, силой. Этого, как мне казалось, должно было хватить для акта запугивания. Но, как оказалось, запугали приставленных ко мне слуг еще до меня.
— Как же не понимаю. Чай не дура. В дела благородных нос совать — себе дороже, — с чувством шмыгнув выше обозначенным органом, уверила меня горничная, оказавшаяся на деле совсем не такой прямолинейной и бестолковой, какой хотела казаться. — Дунька хотела про вас рассказать — с лестницы упала, шею сломала, хотя отродясь не падала. Услышал Митрофан, как ваша сестра ругается, да лошадь клянет, что понести — понесла, а не добила — пьяным в реке утонул…
Список грозил оказаться длинным, но я прервала рыдающую девку, отпуская косу и поднимаясь на ноги. Прошлась по комнате, нервно крутя в руках ставший бесполезным ножик, затем остановилась, бросив злой взгляд на дрожащую от ужаса рыжую.
— Поди вон. И спрячься где-нибудь до следующего утра. — Только и сказала я, за мгновение до того, как широкая, трясущаяся, словно в лихорадке спина скрылась за громко хлопнувшей дверью, моментально закрытой на запор мечущейся, словно дикий зверь мной. Не удовлетворившись прочным с виду запором, я подвинула тяжелое трюмо, хотя раньше даже дверцы поддавались мне с трудом. Но теперь во мне играли безнадега и ярость, готовые выплеснуться сотней самых крепких словечек, когда либо слышанных мной. Но я молчала, воздвигая баррикаду из предметов, составляющих обстановку моей опочивальни. Затем, сдвинув все, что могла, отступила к окну, рассматривая изорванный латунными ножками ковер и расцарапанный ими же паркет.