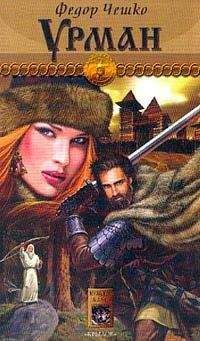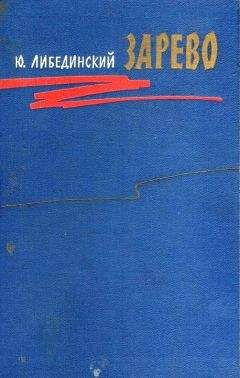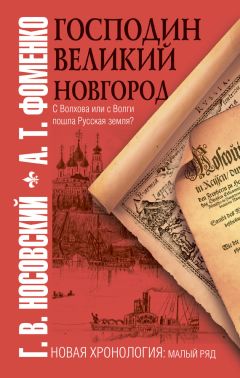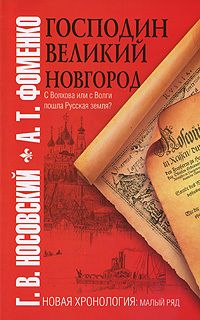Федор Чешко - Ржавое зарево
Получается, Мечников конь попросту отправился к своей стайне кратчайшей дорогой: через самый Идолов Холм. Стало быть, Мечник, не замечая того, умудрился проехать через Навий Град и одолеть почти две трети подъема к Велесову Святилищу со стороны, противоположной реке?
Наверное, так. А вот что НЕ ТАК в окружающем — это туман. Туман при дожде. И еще — почему так светло?
И вдруг…
Дивным образом не перекрывая странно видимый лес вокруг, перед Кудеславовым взором налилась пронзительной явью бурая необъятная равнина под низким пологом каких-то несегодняшних туч, из-под упертых в стремена подошв отчетливо плеснуло шуршанием жухлой травы… Опять.
Как после вражьей ловушки-давилки. Как в ночь накануне прощания с названым отцом. Последнее это не шибко-то давнее воспоминание так и швырнуло Кудеславову руку на рукоять кованного Огнелюбом меча.
Прикосновение к обмотанному кожей «опеньку» отрезвило, словно бы мешанина былых и теперешних наваждений испугалась обычного людского оружия. Кудеслав невольно остановил коня, выждал немного: не вернется ли видение проклятой щели меж степью и небом? Нет, вроде как отпустило…
Вот же напасть! Цепляется и цепляется… И с чего б это вдруг? Оно, конечно, по силе да внезапности нынешний страх потерять Векшу вполне сравним и с когдатошним ударом бревна, и с чем угодно еще, однако же… Или это хворь такая?
Мечнику припомнился встреченный на одном из самочинных подворий дурачок. Пустые глаза, недозакрытый рот, слипшаяся от слюней борода, вместо людской речи — младенческое агуканье… Говорили, вроде его тоже крепко зашибло по темени… Сперва-то удар, казалось, минулся — лишь как бы не через год близкие начали замечать неладное… Упасите, боги, уж лучше вовсе без головы, чем с такой!
А может, все же не хворь? Ведь той ночью, по дороге в родовой град — то, наверное, все-таки было… Значит, и теперь как тогда? Ведовство? Чье? Вроде бы не успел еще Кудеслав здесь поссориться ни с одним ведуном… Или это старое дотягивается из вятских чащоб к выпущенной было добыче?
Или это дотягивается ОЧЕНЬ старое?
Кудеславу неожиданно вспомнилось, где он видел уже светящийся небывалый туман да небывалого рудого волчину. Давно видел — еще задолго и до недоброй памяти ночной своей поездки на прощание с Велимиром, и даже до колоды-ловушки.
Странно, что это выкопалось из памяти лишь теперь… Или не странно? Ведь уйма же лет минула… А тогда почему же все-таки выкопалось?
Может, она, память-то, до сих пор просто боялась выпустить из темных своих похоронок тот давным-давнишний привязчивый сон бесштанного несмышленыша, которого лишь через годы стали звать Кудеславом? И может, трижды пригрезившееся в детстве видение так накрепко въелось в душу, что неосознанные, от самого себя же припрятанные старанья забыть не помогли?
Наверное, так.
Потому что теперь, при первом же намеке на воспоминание, отважного воина продрала мучительная знобкость. Потому что даже тогдашним мальцом он с первого раза понял: видение было чем-то большим, чем просто сон.
* * *…Там, за мохнатой от чащ дальней заречной гривой, Духи еще даже не начинали вздувать к утру свой бродячий Небесный Очаг, а ночь уже почему-то оборотилась лежалой падалью. Ее черная плоть дряблела, расседалась на темных ребрах голых предстужных кустов, оплывала с них белесой туманной гнилью…
Желтый Топор не мог припомнить, чтоб когда-нибудь прежде в эту пору, да еще при тумане, оказывалось аж так светло. Духи снизошли помочь? Соблазнились на обильные жертвы? Или все-таки ублажил их Говорящий с Небом? Нет. Вот это последнее — нет. Потому что самому Говорящему духи не помогли. Наоборот, он наверняка уже надоел Небу и живущим на Небе главным могучим духам. Сначала они пытались отделаться, даря просимое, потом наконец догадались, что подарками только распаляют его несытость, что хочет он выпросить все большее и все чаще, а поет все визгливей да требовательней… Да, Небо и духи не могли не понять это. И решили избавиться. Решили просто не вмешиваться, когда… Может быть, Говорящий уже околел, а может, и нет. Может, он даже сумел бы как-нибудь отлежаться. Но петь свои попрошайства ему уже никогда не суметь. И поэтому он умрет: кроме своих песен, он не может совсем ничего, а бесполезного не станут кормить ни духи, ни люди… Это были хорошие мысли.
Мысли — они разные, они как дыхание. Такие вот, прозрачные, легкие — как дыхание здорового сильного человека. Такие мысли думаются сами собой, ненавязчиво. Бездумно думаются. Ничему не мешая. А еще тем они хороши, что занавешивают голову от других, которые, ворвавшись, не оставят сил больше ни для чего — как надсадные захлебистые вдохи раненного в грудь… копьем раненного… насквозь… или как булькающие вдохи-выдохи Говорящего… Жалко, что он, Говорящий, сразу потерял себя и не видел собак, дерущихся из-за его отрубленной челюсти…
Да, это были хорошие мысли. Они текли сквозь голову Желтого Топора так же легко, ненасильно, как сам он тек сквозь выбеленную прозрачным странным туманом путаницу подлеска.
Это тоже как дыхание. Только-только родившемуся первый вздох — мука; многим не удается превозмочь, осилить, и дряблые синелицые трупики достаются на съедение духам Земли и Леса. Зато остальные, осилив, перестают замечать отмучившее от смерти умение.
То же и тут.
Красногривой показалось, наверное, тогда, на опушке, будто Желтый Топор потерял себя. Долго… даже очень долго просидел он на корточках, двух-трех шагов не дойдя до первых кустов — съежившись, постанывая чуть слышно, уткнув в колени бородатое, коверканное давнишними рубцами лицо, обхватив руками затылок… Наверняка Красногривая испугалась тогда — за него, за себя… Но она не решилась потревожить отца своего выспевающего ребенка. Не решилась, и это правильно.
За время той полусмерти Желтый Топор сам стал подлеском. Зябнущими ветвями, мутными пластами тумана, слежавшейся шкурой жухлого разнотравья да горькой мертвой листвы… всем. И теперь ему бесшумно да ловко скользилось меж неприветливых угрюмых кустов. Ловко. Бесшумно. Ни единой веточки не тревожа сильней, чем тревожил их вялый, отяжелелый от промозглой сырости ветер; ни единою зарывшейся в лесную подстилку хворостиной не хрустнув громче, чем щелкает о палый лист капля — завязь туманной влаги, сама собою дозревшая до падения со стебляной усталой верхушки…
Если бы пугливо семенящая шагах в десяти впереди и слева от Желтого Топора Красногривая теперь осмелилась оглянуться, она бы не увидела ничего, кроме мокрых кустов, тумана да скудного неуклюжего падения дооблетающих остатков листвы.