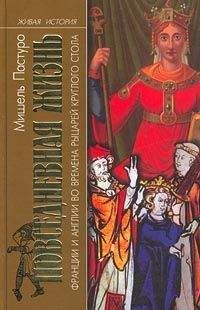Карина Демина - Семь минут до весны (СИ)
Ело и спало.
Просыпалось, снова ело жирное козье молоко, а наевшись до белых пузырей на губах, засыпало. Ийлэ не знала, нормально ли это, но… оно хотя бы перестало умирать.
Наверное, это было хорошо.
— Я полежу… и пройдет… к утру пройдет… я не люблю опий, от него голова тяжелая, думать не могу вообще.
Он лег тут же, у теплого бока трубы. И флягу обнял.
Вскоре дыхание его выровнялось.
Пес спал.
Рядом.
Близко. И сон его был достаточно глубок, чтобы не услышать, как Ийлэ…
…она вытащила нож.
…тупой, с закругленным лезвием…
…но если по горлу и…
Или в шею воткнуть, перервать артерию… его уже не спасут…
Ийлэ осторожно выбралась из убежища. Она обошла спящего пса, который во тьме выглядел темною бесформенною грудой. Ийлэ вслушивалась в хрипловатое его дыхание.
Ровное.
Размеренное… он ничего не успеет почувствовать… а если и успеет, то…
Пес закашлялся, и кашлял долго, сипло, в воздухе запахло кровью, он же, облизав губы, хрипло прошептал:
— Давай… так проще… все разом закончить…
Разом?
Нет.
Этот удар — почти милосердие, а псы не заслуживают милосердия. Ийлэ сунула нож в рукав свитера и, опустившись на корточки у пса. Она коснулась бритой его головы.
Бархатистая.
И коротенькие волосы короткие щекочут ладонь.
— Примеряешься?
— Опий… плохо… они не любят, — Ийлэ стиснула его виски ладонями.
Пульс у него сумасшедший.
И за пульсом, за медным запахом крови слышится биение чужой жизни. Разрыв-цветок ворочается, раздирая едва-едва заросшие раны. Разворачиваются тонкие плети молодых побегов. Лопаются пузыри вакуолей, наполняя кровь ядом.
— Спи, — сказала Ийлэ, и пес тяжело вздохнул. Он стиснул зубы, чтобы не застонать от боли, привстал, точно пытался стряхнуть ее руки, но не сумел — слишком слаб был.
Он покачнулся.
И лег, упершись лбом в колени Ийлэ.
— Ты… от тебя лесом пахнет, ты знала?
— Нет.
Не получалось.
Разрыв-цветок, одурманенный опиумом, не спешил подчиняться. Он тянул силу, и Ийлэ ничего не оставалось, кроме как отдавать ее в отчаянной попытке хоть так утолить голод.
Она это делает не для пса.
Для себя.
И для отродья, которое может спать и есть жирное козье молоко, у которого кожа сделалась розовой, как и положено младенческой коже, и на ней наметились складочки…
…ради печной трубы.
…и призрачного спокойствия, когда там, снаружи, буря.
— Лесом, — пес говорил шепотом, так тихо, что слова его Ийлэ различала с трудом. — Осенним лесом… дымом… и еще грибами… паутиной…
— Паутина не пахнет.
— Ты просто не слышишь. Все в этом мире имеет свой запах. И паутина не исключение.
— И чем же она…
— Серебром. И еще утренней росой… и тобою…
— Или это я?
— Ты пахнешь паутиной? Да, немного… еще влажным деревом… и мхом… брусникой… я бруснику люблю…
— Она горькая.
— И что?
Разрыв-цветок успокаивался. Он вновь засыпал, позволяя псу дышать.
— Ничего. Просто горькая.
— И хорошо… а черника сладкая… и еще земляника… для меня лето начинается, когда земляника… любишь?
— Да… раньше…
— А теперь?
— Не знаю.
Ийлэ убрала пальцы.
Будет спать.
— И теперь любишь. Я так думаю… можно тебя попросить?
— О чем? — Ийлэ устала. Пожалуй, так она уставала прежде, когда пыталась не дать отродью умереть. И тогда этой усталости она не замечала.
— Посиди со мной…
— Я сижу…
— Вот и хорошо… сиди… я усну быстро, обещаю…
— Я все равно тебя ненавижу… всех вас…
— Пускай, — согласился пес. — Ты главное посиди… немного…
Глава 10
Если гостевые спальни и протапливали, то давно. И нынешнее яркое пламя не в состоянии было прогнать холод, равно как избавить комнаты от сырости.
— Боже мой, — с немалым раздражением воскликнула найо Арманди, оставшись наедине с семьей. — Это же надо было до того дом запустить!
Она прошлась по бирюзовой спальне, которую прекрасно помнила, поскольку по странному совпадению — а ничем иным Маргарет сие объяснить не могла — занимала и в прежние времена, которые, однако, никак не могла назвать прекрасными.
— Ужасно, — с готовностью воскликнула Мирра. — Мы ведь ненадолго?
— Буря, — Виктор приоткрыл полотняную завесу гардин.
Бархат?
Отсыревший, потемневший, оттого и глядится уже не роскошно, но жалко. А у карниза и вовсе паутина видна. И не только у карниза.
— Виктор, я и без тебя вижу, что буря… оно и к лучшему, — Маргарет бросила перчатки на столик, а после подумала, что столик этот следовало бы сначала протереть…
…и каминную полку, которую прежде украшали чудеснейшие часы с боем…
…и еще те очаровательные статуэтки из бисквита…
— К лучшему? — Мирра была настроена менее оптимистично.
В поместье ей не нравилось. Если поначалу матушкина задумка показалась… стоящей, то теперь Мирра засомневалась.
…и он не одобрит.
…он не любил, когда его планы нарушали. Но что могла Мирра против матушки?
…с другой стороны, он сам виноват, если бы сделал так, как обещал, то не было бы ни этой поездки, ни этого представления.
— Ни горничных, ни… — Мирра потерла виски, пытаясь скрыть беспокойство.
Он разозлится.
Определенно.
И накажет Мирру. Она заслужила наказание. И примет его с должной покорностью.
— Дорогая, — Маргарет произнесла это мягким тоном, который, впрочем, Мирру не обманул: характер своей матушки она знала прекрасно. Если она что задумала, то точно не свернет с пути. — Представь, что война все еще идет…
— И горничных забрали на фронт, — продолжила мысль Нира, которая, вооружившись длинной щепкой, гоняла паука.
— Нира!
— Да, матушка?
— Будь добра, сходи на кухню… попроси молока… кипяченого молока с медом…
Выпроводила, в общем.
Нира не обиделась, она как-то с детства привыкла, что в собственной семье была лишней. Матушка любила Мирру, отец — матушку, а Нира… она просто сама по себе.
Неожиданный ребенок.
Это она услышала, как мать говорила кому-то из своих многочисленных подруг, а потом добавила, что с той поры сюрпризы ненавидит…
Дверь Нира прикрыла аккуратно и, добравшись до конца коридора — шла она громко, чтобы матушка и Мирра слышали — остановилась.