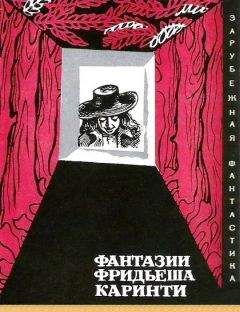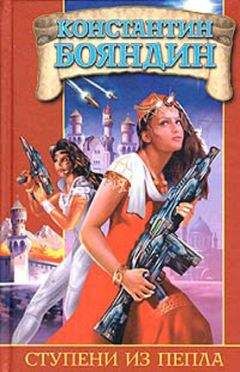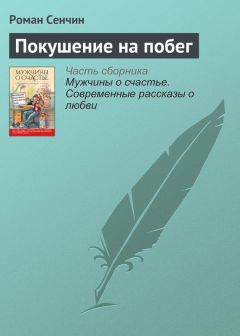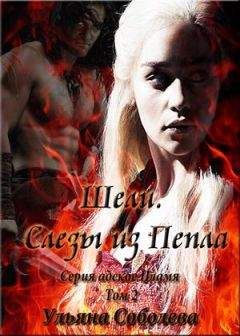Фридьеш Каринти - Фантазии Фридьеша Каринти (Путешествие в Фа-Ре-Ми-До, Капиллария)
Признался я ее величеству и в том, что, разумеется, не всегда мое счастье было безоблачным. Нередко моя жена пребывала в дурном расположении духа или грустила. На моем пути вставали безумцы, которые, завидуя нашему счастью, пытались отвоевать ее у меня. Своей цели они добивались ухаживанием, настойчивыми обещаниями настоящей любви и прочих благ. Моя жена нередко колебалась, чем доставляла мне неизъяснимые страдания. Но в конце концов всегда побеждал я, и обольстители вынуждены были признать, что в той борьбе, которую как самую беспощадную борьбу за существование описали Дарвин, Вайнингер, Ференц Мольнар или Эндре Ади, сильнейшей стороной оказывался все же я. Было у меня и несколько дуэлей, в которых раны своим противникам наносил преимущественно я: как хирург, должен признаться, что это были весьма серьезные ранения, одно из которых, увы, имело смертельный исход.
Поведал я Опуле и о том, что в кризисные моменты супружеской жизни я часто размышлял над проблемой, занимавшей многие умы нашей эпохи, — над проблемой о положении женщины. Я нередко посещал театр, с моей точки зрения являющийся форумом взволнованной человеческой души и актуальной политики. Будучи весьма начитан, я широко пользовался творениями современных поэтов и поэтов прошлых веков, пытаясь извлечь квинтэссенцию из произведений гениальных мужей, которые в совершенстве раскрывали тайну того явления, что мы называем одним словом — Женщина. Я познакомил свою слушательницу с теми великими умами, которые смотрели на женщину с точки зрения высшей морали и высшей мудрости, а также и с теми, кто усматривал в ней лишь грубый и вящий объект телесной любви, то есть смотрел на женщину весьма примитивно, так сказать, невооруженным глазом.
В построенной мной схеме под одну рубрику попали Золя и маркиз де Сад, натурализм и порнография (о последней я распространялся весьма пространно, с подробностями, повторить кои здесь мне не позволяют приличия); в особый, привилегированный раздел я объединил признанных прозекторов тайн женской души — Флобера, Стендаля, Батайя — и весьма кратко резюмировал содержание целого ряда современных драм, представив Опуле творчество Ибсена, Стриндберга, Метерлинка, Гауптмана, Шоу, Бернштейна. О пьесах, посвященных разрыву супружеских уз, я рассказал отдельно, дав понять, что драматурги по-разному — иногда иронически (прибегая к приему так называемого “треугольника”), иногда трагически — живописали последствия женского непостоянства…
Здесь Опула неожиданно перебила меня, задав совершенно непостижимый с моей точки зрения вопрос: какое платье носил Стриндберг и в чем была одета Элеонора Дузе на генеральной репетиции “Дамы с камелиями”? Она попросила описать это с подробностями, ибо все остальное, о чем я повествовал, ей ясно с полуслова, а в этом вопросе она испытывает потребность в более конкретных сведениях.
Несколько ошарашенный, я вынужден был все же повиноваться. Я сказал, что туалет Стриндберга мне описать ничего не стоит — все европейские мужчины в принципе носят, можно сказать, униформу: очень простого покроя одежду, задача которой — скрыть от глаз мужскую наготу и контуры тела наиболее экономным способом. Для этой цели служат, собственно, пять частей туалета — одна из них укрывает туловище, четыре других, меньших по размеру, соответственно — руки и ноги. Обычно такой туалет шьют либо из серого, либо из черного материала (ни в коем случае нельзя смешивать расцветки) и изготовляют в виде отдельно пиджака и отдельно брюк с тем, чтобы естественная граница двух частей обнаженного тела — туловища и ног — не была бы заметна. Такую одежду носят все мужчины в Европе; носил ее и вышеупомянутый Стриндберг, пока был жив, хотя, если быть откровенным, мне не совсем ясно, какое отношение это имеет к обсуждаемой теме.
Затруднительнее оказалось ответить на второй вопрос — наши дамы одеваются в самые разнообразные и самые богатые наряды. Цель их гардероба двоякая как и в животном мире: с одной стороны (хотя это и не самое главное), платье должно служить защитой от непогоды с другой же стороны (что существенно важнее и едва ли не основное), оно предназначено выявить и подчеркнуть специфически женское начало в женщине, служить обольщению мужчин, будоражить мужское воображение таким образом, чтобы вызвать впечатление душистого цветка, предназначенного для того, чтобы его сорвали, или, что еще желательнее, вожделенного плода.
Тут Опула попросила меня не прибегать к такому количеству сравнений, ибо ей непонятно, зачем они. Как она заметила, земные буллоки вообще злоупотребляют в своей речи метафорами в такой же степени, в какой профанированные (обезображенные) ойхи, среди которых они живут и которых я называю “женщинами”, злоупотребляют платьем, пытаясь с его помощью придать видимость совершенства своим телесным несовершенствам. Как только мы испытываем недостаток интереса и чувства к тому, о чем говорим и к чему хотим возбудить интерес и любовь у других, продолжала она, мы тут же прибегаем к сравнениям, как бы компенсируя этим отсутствие иных доказательств, подобно тому как торговец говорит о масле, что оно “как миндаль”, а о миндале, что он “как масло”, ибо не верит в то, что его товар может говорить сам за себя и производить должное впечатление самой натурой. Если наши переродившиеся ойхи испытывают потребность в одежде, дабы производить впечатление цветка или плода, которые хочется сорвать, то это, очевидно, происходит по той простой причине, что без одежды они выглядят не вполне цветками и не вполне плодами. Но все это не столь уж существенно, ибо на основе моего рассказа она составила приблизительное представление о том, о чем хотела знать. Не понимает она только одного: как могло случиться, что, когда меня обнаружили на дне океана, я был в той же одежде, какую, по моим описаниям, носили земные буллоки.
Только тут до меня наконец дошло, что Опула принимает меня не за буллока, то есть за мужчину, а причисляет к разряду дегенерировавших земных ойх, то есть к себе подобным существам женского пола. Мой внешний вид, мое физическое обличье действительно подходило, с ее точки зрения, скорее к “чувственному организму”, каким являются представители женского пола, нежели к тем маленьким уродцам, которые в Капилларии связываются с представлениями о мужском начале. Я поостерегся сразу указать ей на ее ошибку, — откровенно говоря, в стране ойх это заблуждение выглядело для меня скорее как комплимент, чем как оскорбление. Кроме того, мне показалось более дальновидным не просвещать Опулу относительно истинного положения вещей — ведь, к сожалению, я не мог надеяться, что она согласится беседовать со мной и проявит прежний интерес к моей особе, после того как узнает, что по существу я ближе стою к тем червям, которые вызывают в ней лишь презрение и гадливость.