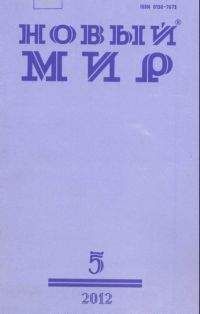Лев Вершинин - У подножия вечности
Зря спросил: стоило лишь взглянуть пристально в строгие глаза монаха – и понятно стало без слов. Но сердце не желало поверить, цеплялось, глупое, за соломинку: а вдруг?.. ведь для извещенья о беде и холопа бы хватило…
– Ну?! Жив Ондрюха-то?
– Господи наш Исусе, – не боярину отвечая, но к образу Спасителя обращаясь, широко перекрестился монах, – помяни в вере и надежде бытия вечного новопреставленного раба твоего Андрея…
Так вот и поименовал – непривычно, с нарочитым книжным аканьем, – и не по скорбному голосу, не по смыслу слов даже, а по чужеземной непривычности звучания холопьего имени понял боярин: свершилось.
– Отмучился, значит?
Трижды положил крест.
– Вечная тебе память, Ондрюха…
Пятерней прочесал бороду; указал на пустой стулец.
– Присядь, отче. Помянем как должно.
И, ощутив невысказанное намеренье отказать, прикрикнул:
– Садись! Ю же и монаси приемлют…
Вроде бы и без зла прикрикнул, просто шутя монастырским словцом, да с подмигом – а подмига-то и не вышло. Сам понял: скверно получилось, крикнул, будто на дворового. И монах уловил; вскинул удивленные глаза, неявно осуждая.
Однако же – сел.
– Пей, ну!
Придвинул воевода чару Ондрюхину к краю стола. Сквозь приятную хмельную поволоку в голове пробилась злорадная мыслишка: а вот тебе, холопище, за уход самочинный от хозяина! Вкусен мед, ан не выпьешь! Ну, сам виноват, пускай чернецу достанется…
Чернец же – ишь ты! – головой качнул.
– С тобою, боярин, коль тяжко тебе, побуду. А пить не стану.
– Не станешь?!
– Уволь! – всколыхнулись крылья куколя.
Вдруг до крика обидно сделалось. И уж не смог понять воевода после пяти-то чар, что обида та на разлучницу костлявую, что чернец вовсе ни в чем не повинен; показалось и утвердилось в воспаленном мозгу – вот, в очи плюнули отказом, а за что?
– Отчего ж так, поп? Покойничка по русскому обычаю помянуть стыдишься?.. или мною гребуешь?[72]
– Попусту гневаешься, Борис Микулич, – тихим голосом отмолвил чернец. – Не пью я; да и тебе не время для пития – ворог у стен…
Еще обиднее сделалось: да что ж это? Он! Мне! О вороге!
– Нееет, поп… – выцедил воевода, жутковато скалясь. – Самое времечко настало праздновать; кончились поганые, уйдут не сегодня завтра. Так что уж снизойди ко мне, к Борьке сирому, не откажи чару испить…
Ох, как мутно в голове! и одно ясно: ненавистен монах! И верно: ведь давно уже в Козинце, едва ль не шестой годок, а все как чужой: ну службу блюдет, ну поклон при встрече отдаст, а по-людски посидеть – никак, и слова лишнего не молвит; сидит у себя бирюком. Прежний-то попик был хоть куда: и с чаркой знался, и байки сказывал, и в тавлеях толк знал…
Тавлеи!
– Ну, а в тавлейки сразиться? А, монах?
– Не ведаю сей премудрости, – вновь качнулся куколь. – Да и грешно…[73] Ах, значит, вот этак?!
– А скажи-ка, отче Феодосий, – с ласковым бешенством спросил воевода, – а поведай-ка: за какой-такой грех тя, агнца невинного, к нам-то сослали?..
Нет, слово – не меч. Не рубит, не колет.
Слово подчас – страшнее меча. Бьет наповал.
Словно под дых ударило монаха вопросом; сгорбился чернец, пошатнулся даже, и с недоброй радостью понял воевода: уязвил! А что, разве не истина? Былинные-то времена позабыты, быльем поросли, и ныне в глухомань козинецкую разве ж пошлют служить путевого? Фома да Анания, угодники, князьям самим ныне надобны. А Козинцу и что похуже сойдет. Епифаний вот, покойный, как приплыл, так сразу и скрывать не стал: за пьянство послан; а допрежь него – Гервасий, и тож за пьянство; а Стефан, еще при батюшке, так тот и вовсе не святой, нагишом на срамной девке был пойман игуменом… Чем этот лучше? Отчего гордится?
– Пойду я, воевода; не ты говоришь, хмель говорит.
Встал было монах, а уйти не смог. Перегнувшись через стол, поймал Борис Микулич за рукав – и дернул. И покатились на пол со столешницы тавлейные бойцы, да этого уж и не заметил воевода.
– Нет! Скажи все же, чем перед владыкою провинился?
Но молчит монах, насупился, зарылся сам в себя, словно крот в землю.
– Ну? Может, тем величаешься, что из самого из Киева? – так тьфу твой Киев! Батя бати моего с князь-Ондреем на щит его брал! а сам батя с дружиною Всеволода ходил, Киев твой оборонять от половцев по зову Ростиславича! Сгнил Киев, кончился…
Сплюнул на пол.
– А от тя, поп, небось и Господь отвернулся за грехи!
Широко распахнувшись, темным огнем сверкнули очи монаха.
– Нет грехов на мне, и молитвами моими ныне город стоит!
– А? – не понял поначалу воевода. И, поняв, захохотал, брызгая хмельною слюной в лицо чернецу:
– Твоими? Да ведомо ль тебе, отче, что есть Божидар?
От смеха даже и злоба отвалила. Ну что с дурака спрашивать, кроме дури? Ведь не знает же, капли малой не разумеет, куда послан, зачем. А отцы киевские, что – знают? Тож дурни дурнями, посылают по обычаю в Козинец что похуже. Да и то сказать: мудрые на Днепре перемерли давно, а нынешние разве и сами правду ведают?
– Ну-ка, ну! – дразнится боярин. – Что ж есть Божидар?
– Крест, Господом посланный, нерукотворный… – отвечает монах, насторожившись. – Так ведь?
– Так, да не так… – хмыкает воевода. – А хочешь знать, как?
Но и без ответа видно: хочет. Ишь, подался вперед!
– Коли хочешь – пей! Все обскажу!
Аж задрожал Феодосий. И то сказать: в Киеве-то невесть что плели, а монах любопытен – тут уже, почитай, всех переспрашивал, да ведь смерды одно и могут – байки плести, а как оно было на деле – кто ж знает, кроме самого воеводы?
– Да не приемлю ж я зелья! Нутро слабо! – даже обиду забыв, крикнул монах отчаянно. И споткнулся взглядом о лукавый боярский прищур.
– Кто ж не пьет, отче? Все пьют, окромя тех, кто напивается. За иной грешок тебя, мыслю, и расстригли бы вовсе. Ну а ежели заклялся меду не касаться, так один раз – не преступленье, Бог милостив. Выпей – и не утаю, вот те крест.
Вдруг поднес монах чару к губам, понюхал – и скривился. И понял Борис Микулич: а не врет ведь бедолага, и впрямь хмельное поперек нутра. Но – не рвать же затею! Улыбнулся воевода шире прежнего: а ну пей! веселием питейным Русь стоит и вовеки выстоит…
Не дождался монах пощады. Хлебнул – и закашлял, заперхал, будто репьи в горло набились, и опять взглянул с мольбой поверх края чары.
– Пей, отче, пей, – поощрил воевода.
Пришлось чернецу допивать. И долакал, вперемежку с кашлем и перханьем, дохлебал вчистую, до самого дна осушил. Дернул кадыком, щуря веки; передохнул, посмотрел исподлобья, готовый укорить за возможный обман.
– Не слукавил ли, воевода? Грех будет…
– Не будет! – хлопнул ладонью по столу Борис Микулич, пресекая глупое подозренье. – Все скажу, без обмана. Но сначала ответь: тебя ведь, сюда ссылая… иль посылая, нехай так… как научали? Мол, идол был поганский, а угодники древние, Анания с Фомой, вынесли оного из лесов, чем веру дикарскую пресекли. Так?

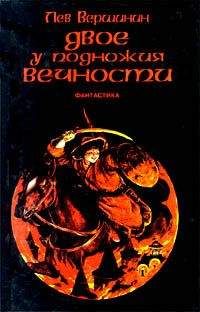

![Елена Вихрева - Акелдама - кровавое поле битвы [СИ]](/uploads/posts/books/1764/1764.jpg)