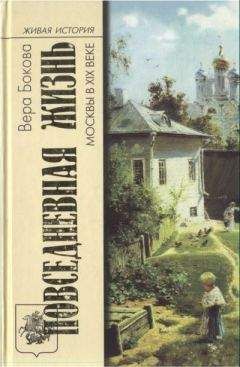Екатерина Казакова - Пленники Раздора
— Он у себя заперт. Сейчас как раз пойду, платье отнесу да отведу помыться.
Нурлиса протянула девушке стопу одежды и вгляделась в застывшее лицо.
— Чего это с тобой, деточка? — осторожно спросила бабка. — Случилось чего?
Лесана покачала головой.
Ничего у неё не случилось. Жива. Здорова. Случилось с другим. А она… всего лишь вспомнила то, что следовало навсегда забыть. И ведь казалось, ко всему привыкаешь. К чувству глубокой вины, к старой обиде, к горячей ненависти, к стыдному страху. Вот только к утрате надежды невозможно привыкнуть. Разум всё цепляется, всё ищет, за что ухватиться, как не захлебнуться отчаянием… а хвататься бессмысленно. Надежды не осталось.
— Спасибо, бабушка, — девушка улыбнулась и забрала из рук Нурлисы высокую стопку одежды. — Этого нам вовек не сносить.
Старуха посмотрела на неё воспаленными слезящимися глазами:
— Что это ты, а? Чего ещё удумала? — карга грозно двинулась вперед. — Ты мне зенками‑то не хлопай! Я тебя, как облупленную знаю! Ишь, вытаращилась! А глаза‑то оловянные, я…
Девушка не стала слушать, поцеловала сварливую бабку в морщинистую щеку и вышла, придерживая подбородком стопу одежи, чтобы та не развалилась.
Нурлиса осеклась, только остановившимся взглядом смотрела на закрывшуюся за обережницей дверь.
Горе учит. Горе и беда.
Вот и Лесана научилась претерпевать любую боль. Научилась говорить спокойно и ровно, несмотря на страдание. Научилась слушать других. Что‑то говорить и делать самой. И чувствовать, как на место боли заступает звонкая, ничем не заполняемая пустота, в которой бесследно исчезают тревоги и волнения, опасения и страхи. Всё. Наверное, это называют смирением — кроткое принятие безоговорочной жестокости.
Девушка миновала короткий коридор, подошла к знакомой уже двери. Лют в кои веки раз не дрых. Она сунула ему в руки чистое платье и повела в мыльни. Оборотень хромал впереди и был на диво молчалив. Лишь бросил на спутницу короткий пронзительный взгляд, но не обронил ни слова. Диво. А то ведь не заткнешь…
Пока он мылся в кромешной темноте, Лесана сидела в раздевальне и разглядывала свои руки. Просто не знала — куда ещё смотреть. Руки были загрубелые, с застарелыми мозолями, исчерченные тонкими нитями заживших порезов. Гвозди можно забивать и не поранишься…
У Фебра ладони куда жестче и крупнее, а костяшки пальцев — все в старых шрамах. Были.
Глупо теперь убиваться. Рано или поздно, кто‑то из них двоих получил бы эту весть. Однако, пока ты знаешь, что тот, другой, пускай и где‑то далеко, но все‑таки жив — остается надежда. Увидеться. Перемолвиться хоть парой слов. Почувствовать себя теми, прежними — ещё способными любить, ещё не выжженными дочерна.
Может, он и забыл её давно. Может, уже впустил кого‑то в сердце. Но Лесане была важна не его память и не его верность. Ей был важен он сам. Тот юноша, который снимал губами мед с её пальцев. Который помнил её в женской рубахе и разнополке, с тяжёлой косой и лентой в волосах… Пока он жил, казалось, что всё ещё можно повернуть вспять, изменить хоть на оборот! Короткой встречей, объятиями после долгой разлуки, разговором. «Как ты?» «А ты?» «Да что со мной станется!»
Эх и дура она… Всё надеялась — счастье впереди, а оно уже завершилось. И нового не случится. Не бывает его у обережников.
Взять хоть Клесха, который одним махом потерял жену, дочь, сына… В сравнении с его горем, её — не беда, так — победушка. Вот только известие о Фебре стало последней каплей в чреде непрерывных скорбей…
— Лесана…
Девушка удивлённо вскинула глаза. Надо же, не слышала, как подошёл.
Лют стоял напротив уже одетый.
— Готов? Идём. — Она взяла со скамьи порядком уменьшившуюся стопу одёжи и привычно пропустила спутника вперед.
Волколак смерил обережницу внимательным долгим взглядом.
— Что?
Он покачал головой и пошёл, припадая на увечную ногу, к выходу.
— Я завтра до рассвета приду, будь готов к той поре, — сказала она, совсем забыв, что надо принести ему еды.
— Буду.
Дверь закрылась.
Лесана шла в свой покой, перебирая в уме всё то, что следовало приготовить в дорогу. Не забыть бы чего. Не привыкла она так собираться… совсем не привыкла.
Скарб пришлось сложить в короб, что‑то обернуть в холстины, что‑то завязать в узлы. Надо же, сколько барахла… Зачем им столько? Девушка разделась и вытянулась на лавке. Может, забыла чего? Забыла — купит. Денег что ли нет?
Она уткнулась лицом в сенник. В Цитадели царила тишина. Впервые Лесане пришло в голову, что тишина тоже бывает разной. Есть тишина спящего леса, есть тишина знойного полдня, есть тишина предрассветного утра. А есть тишина Цитадели, которой не сыскать глуше.
С этой мыслью обережница провалилась в забытьё. Но на зыбком рубеже яви и сна она всё‑таки успела взмолиться: «Хотя бы приснись мне нынче! Как отпущу, не простившись?»
Он не услышал. И не приснился.
* * *Из черной пустоты сна Лесану вырвал резкий стук в дверь.
Девушка проснулась мгновенно. Дрема слетела вместе со сброшенным одеялом. Обережница босиком прошлепала к двери, отодвинула засов и замерла, увидев на пороге Донатоса.
Несколько мгновений оба молчали. Она, стоя босиком на студёном полу в одной исподней рубахе, он, глядя на неё неживыми, лишенными мысли глазами.
— Лесана… — крефф с трудом выталкивал из себя слова. — Ты ведь… можешь жилу отворить?
Его голос звучал глухо и казался таким же мертвым, как и глаза.
— Пошел вон. — Сказала девушка.
Колдун покачал головой:
— Твоя помощь нужна, — и тут же поспешно пояснил: — Не мне.
— Кому надо, сам придет, — ответила она и толкнула дверь, чтобы захлопнуть перед самым его носом, но Донатос успел выставить вперед ногу.
— Подожди. Хоть выслушай.
Обережница вздохнула:
— Шёл бы ты…
— Там Светла мается. Умереть не может.
Лесана глядела на незваного гостя, и понять не могла — чего ему надо?
— Не может? — удивилась она. — Мне её убить что ли?
А сама подумала, что для скаженной это ещё не самая худшая участь.
Колдун покачал головой:
— Жила у неё перекрыта, оттого и умереть не может девка. Нутро выплёвывает, задыхается, смерть зовет.
Говорил он глухо, устремив пронзительный взгляд выцветших глаз в переносицу собеседнице.
Та слушала молча.
На миг во взгляде креффа мелькнуло запоздалое понимание, и мужчина стал медленно опускаться на каменный пол…
— Сдурел?! — зло прошипела девушка, цепко ухватив его за локоть. — Камлания твои мне тут даром не нужны. Сам — гнида последняя — и других на мерку свою поганую меряешь? Думаешь, за паскудство твоё на девке безвинной вемещусь? Жди.