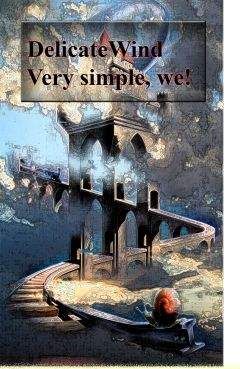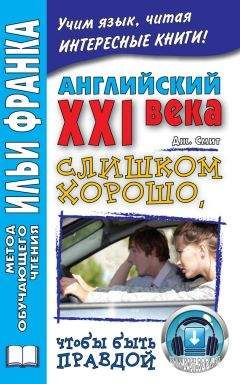Империя мертвецов - Ито Кэйкаку
– Давай подытожим, – сказал Барнаби, крупными руками массируя широкие виски. Мне показалось, что от его головы поднимается пар.
– Не перенапрягайся, – посоветовал я.
– Значит, в «Записях Виктора» расплывчато описана процедура внедрения псевдоэссенции в живого человека?
– Так точно.
– И для этого надо, чтобы человек погрузился в состояние транса от опиума или болезни?
– Так точно.
– А на кой черт так заморачиваться? Нужно больше мертвецов – так это дело нехитрое. Один удар в сердце – и готово.
– Просто люди обожают развивать технологию. Вот дети, например, постоянно канючат новые игрушки. Если уж на то пошло, то наука – самая интересная игрушка человечества.
И это, скорее всего, правда. Не болезненное обстоятельство, а факт. Чрезмерно усердные раздумья и волненья убивают кошку, как, впрочем, и любопытство. Любопытство – необходимая составная часть прогресса, но его избыток ведет к аннигиляции.
– Понятия не имею, о чем думал этот Франкенштейн, но вряд ли То Самое нас дразнит потому, что хочет совершить научную революцию.
– Да, сомневаюсь, – ответил я. Тот, кто стремится к необратимому распространению технологии, вынужден думать о последствиях. И пока я с трудом подбирал правильные слова, Барнаби в выражениях стесняться не стал:
– Может, То Самое хочет омертвить все человечество?
– Возможно даже, что всех живых, кроме себя.
Стали появляться люди, создающие умертвий. Век спустя люди погнались за тенью Того Самого.
– Или, возможно, он собирается устроить революцию человечества?
Второй закон Франкенштейна гласит: «Запрещено создавать мертвецов, превосходящих своими способностями живых». Что будет, если умертвия окажутся эффективнее живых? Если некрограммы позволят усовершенствовать не только их физические данные, но и ментальные? Что, если способности к феноменальному счету, как у Адали, получит каждый? Если по сиюминутному капризу можно будет записать в человека любой навык? Отключить боль силой мысли, переписать любое страдание, а то и вовсе удалить? Если придет день, когда человек, не спрашивая позволения, научится менять волю окружающих, то что же мы натворим? И это рукотворный Эдем?
А какая гора подопытных вырастет на этом пути?
– И что тут интересного? – спросил без капли иронии, с искренним непониманием Барнаби.
– Все зависит от того, кто определяет, что интересно, а что нет. Впрочем, я считаю, размышлять о том, что ждет человечество в высшей точке технического прогресса, – признак гордыни.
Кто знает, может, стараниями величайших некроинженеров миру явится полностью подчиненный законам природы, холодный, молчаливый мир без греха. Вымерший рай, в котором утихли все войны. Люди продолжат стоять в нем тенями, погруженные в собственные мысли. А может, нас ждет мир погрязших в бесконечной битве самодвижущихся автоматических орудий. Не наступит ли в ноосфере, о которой мечтает Федоров, гробовая тишина?
То Самое. Одинокая душа, самовольно порожденная и брошенная человеком на произвол судьбы. Адам, с которого все началось. Что оно выбрало? Не возненавидело ли человечество?
Техника – это зеркало способностей того, кто ею пользуется. Я разглядывал море бесформенных возможностей, отделенных от моей нити мысли. Их там плескалось предостаточно. Ведь не исключено, что на самом деле «Осато Кемистри» занимались разработкой патогена, который уничтожает мертвеца, а возможно, они и правда думали создать и распространить по планете бактерию, которая влияет на работу мозга. Не во власти человека испробовать все возможности, даже учесть их все он не может. Я просто выдвинул самую правдоподобную, чтобы выгадать немного времени, и чуть-чуть помешал, не давая развить остальные.
– Пари… – помотал головой Барнаби. Словечко, которое обронил кто-то по ту сторону пишущего шара… предположительно, То Самое. Мы так и не поняли, к чему оно, зато очевидно, что Уолсингем уже имел с ним дело. Чудовище упомянуло про двадцать лет, и это исключает плотное сотрудничество, но «пари» не давало мне покоя.
– Понятия не имею, как отчитываться перед Лондоном, – проворчал я.
– А что с перфокартами? – вернулся к более насущной проблеме Барнаби, указывая на Пятницу, который все так же сидел, склонившись над японским столиком.
– Не знаю. Там даже проколы вперемешку, как читать – и то непонятно. Но, судя по всему, это копия «Записей Виктора», просто в ином формате. Хотя черт ее знает, насколько она соответствует оригиналу. Учитывая, с какой готовностью он нам ее передал, похоже на ловушку.
– Или приглашение, которое нужно разгадать.
Барнаби пожал плечами, оставляя поиски ответа на эту загадку полностью на моей совести.
А Чудовищу не чужда ирония. Японское правительство решилось избавиться от «Записей», но из-за шифра не знало, подлинник ли это. Я, в свою очередь, твердо намеревался сразу уничтожить этот документ, но теперь, заполучив шифрованные записи сомнительного содержания, чувствовал, как разгорается интерес. Возможно, стоило бы умерить любопытство и избавиться от перфокарт, но не исключено, что на самом деле на них записано истинное положение вещей.
Признаться по чести, нам с Пятницей удалось выцепить оттуда любопытную последовательность символов. На одной из карточек нашлось предложение, которое начиналось с «Я, злосчастный V. F…», но продолжалось набором бессмыслицы. Из нагромождения букв чего порой только не вычленишь. В конце концов, и кошка, нажимая лапами на клавиши печатной машинки, иногда набивает осмысленные слова. Пусть и совершенно случайно. И потом на той же карточке, где обнаружился предположительный монолог Виктора, нашлась и последовательность, в которой можно было разглядеть «Я, Пятница».
Что это за текст? То ли одно, то ли другое, а может – вообще что-то третье.
Возможно, Аналитическая Машина на моей родине справилась бы с задачей лучше. Но «Записи» нельзя так просто передавать в Аппарат Уолсингема, да и Паркс предупредил, чтобы мы не доверяли японской телеграфной сети. Подводные кабели на участке Владивосток – Нагасаки – Шанхай, насколько я понимаю, принадлежат не Англии, а датской «Грейт Норзерн Телеграф Кампани» [46]. Во Владивостоке и вовсе начинаются русские линии, а значит, информацию могут перехватить и с той стороны тоже.
На столике громоздились принявшие форму перфокарт секреты, не сгинувшие до сих пор только потому, что они очень надежно себя сохранили. Я, лежа в постели, поиграл с мыслью о том, что на некоторые загадки лучше не находить ответа. С каждым днем я все четче осознавал, что эта тайна по своей природе похожа на душу.
Так уж получается, что если мы все же вскроем подноготную человеческой души, прознаем ее устройство и все объясним, то мы, пожалуй, из живых людей превратимся в простой объект. Не окажется ли то, что мы зовем душой, лишь ощущением внутренней наполненности, недостатком понимания, с роковой неизбежностью вызванным размером нашего мозга? Не окажемся ли мы, в свою очередь, с точки зрения Аналитических Машин примитивными созданиями?
За окном развилась какая-то бурная деятельность, и Барнаби выглянул посмотреть. Он откинул кружевные шторы и прижался лбом к стеклу.
– Улисс Грант приехал засвидетельствовать свое почтение Парксу. Кстати, вот еще одна, которой палец в рот не клади, – пробормотал он вдогонку. Должно быть, увидел Адали. Я хотел было возразить, как вдруг в дверь постучали.
– Прошу! – Я пригласил неизвестного гостя войти, и за порог шагнул мужчина с прилизанными волосами, аккуратными усами и саркастической улыбкой.
– Батлер!
– Весьма польщен, что вы меня запомнили, доктор Ватсон.
Батлер широкими шагами подошел ко мне:
– Бывший президент Соединенных Штатов Америки приглашает специальных агентов Аппарата Уолсингема мистера Джона Ватсона и мистера Фредерика Барнаби, а также слугу, мистера Пятницу, на чаепитие. Его превосходительство очень любопытствуют узнать вас покороче!


![Франсин Риверс - Веяние тихого ветра [A Voice in the Wind]](/uploads/posts/books/267058/267058.jpg)