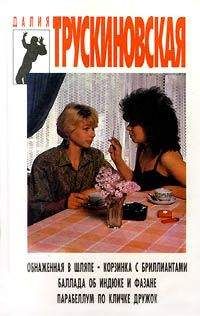Далия Трускиновская - Окаянная сила
— Ого! — Федька стряхнул ее, как малого кутенка. — Горяча ты, матушка! Это любо! Ну так вот те мой селезень!..
— Дядя Епифан! — что есть мочи завопила Аленка, чуя, что вот теперь-то и пришла ее погибель.
Но кучеру, видать, было не до нее.
Федька распахнул на ней, лежащей, ферезею, ухватился лапищей за грудь.
— Ах-х!.. Ха-а!..
Не человек — чудище дикое громоздилось на девушку, ахая и шипя от возбуждения. Жесткая борода оцарапала лицо и шею, Аленка высвободила руки, вцепилась в нечесаные космы Федьки, но оторвать его от себя не смогла.
— Ради Христа… Не погуби!
— Невелик грех, замолишь!
— Феденька, батюшка мой… — Аленка уж не соображала, что лопочет. — Отпусти, не губи!
Вдруг щекам сделалось жарко, голова поехала-поплыла, да вверх дном и перевернулась…
Шум пропал.
И всё пропало.
Очнулась Аленка оттого, что ее сильно трясли за плечи.
— О-ох… — простонала она, не открывая глаз и не желая возвращаться из небытия.
Однако слух уже проснулся, уже опомнился и, помимо воли, принимал диковинные и звучащие вперебой слова.
— Так она, выходит, девка была?
— Дурак же ты, Федька!
— Гляди, и коса — девичья…
— У людей дураки — вишь ты, каки, а у нас дураки — вона, каки!
— Бог дает — и дурак берет!
— Так кричала ж, что купецкая вдова! — Алена узнала этот обиженный басок.
— Вдова, вдова… Ты на нее глянь — какая она тебе купецкая вдова? Заморыш!
— Завралась девка, вот что…
— Так сами ж орали — вот те, Федька, купчиха, давно поджидал!
— Вот те и купчиха!..
— Впредь те, бабушка, наука — не ходи замуж за внука!
Грянул хохот, но сразу смолк.
— Пес! — услышала Аленка звонкое, резкое, удару плети подобное словцо. По общему покорному молчанию поняла — пришел хозяин. Атаман. Сам Баловень.
Она приподнялась, опершись на локоть, открыла глаза и увидела стоявшего прямо перед ней мужика средних лет, чернобородого, в меховом колпаке и распахнутой короткой шубе. Стоял он, росту вроде и среднего, — руки в боки, глаза в потолоки, выпрямившись да вытянувшись, и потому смотрелся вровень с долговязым, да понурившимся Федькой.
— Девство рушить — последнее дело, — произнес этот мужик, и голосишко вроде был тонковат, не по чину, а слушали, не перебивали. — Девок обижать — грех, Бог накажет. Баба — у той не убудет. Говорила она тебе, что девка?
— Да мало ли что она говорила, я и не слышал… — признался сдуру Федька.
— Когда дурак умен бывает? — спросил атаман, оборотясь к сгрудившейся за его спиной ватаге, и сам же себе ответил: — Коли молчит! Ты, Федя, у нас не просто дурак, а дурак впритруску!
Раздался смешок.
— Да ладно тебе, Баловень, — обратился к остроумцу мужик постарше. — Что делать-то с девкой? Отпускать-то — никак…
— Вот то-то и оно…
Тут вдруг Федьке взбрело на ум, что есть способ поправить дело.
— Дядька Баловень!
— Ну?
— Я на ней женюсь!
— Ого! — Такое отчаянное решение изумило Баловня до чрезвычайности. И прочие также остолбенели.
— Жених, блудлива мать… — заметил кто-то незримый.
Аленка села и одернула подол.
— Очухалась, дура? — Оказалось, что всё это время возле нее стоял еще один налетчик, он-то и протянул руку. — Подымайся! Кланяйся атаману.
Ноги Аленку не держали — едва ощутив ступнями землю, рухнула она перед Баловнем на коленки.
— Христа ради, не погуби…
— Да уж погубил тебя наш дурачина, — заметил Баловень. — Детинушка — с оглоблю вырос, а ума не вынес!
— Да женюсь я! — с пронимающим душу отчаянием завопил вдруг Федька. — Сказал — женюсь! Христом-богом!.. Сказал же! Все слышали — же-нюсь!
* * *— Возьмешь высевок шесть щепоток, — озадаченно повторила Алена. — Размочишь в теплой водице. Размочила, ну?.. Мерку муки заваришь крутым кипятком, истолчешь пестом… Истолкла, ну?.. Пусть остынет, чтобы палец не жгло… Не жгло, ну?.. Смешаешь с размоченными высевками… Выйдет опара. Поставишь всходить…
Всё это она исправно проделала, и щепотки высушенных высевок, которые дала ей бабка Голотуриха, положила отмокать ровным счетом — ей ли, вышивальщице из царицыной светлицы, считавшей своими тонкими пальчиками не только семенной, но и кафимский, и бурмицкий крупный жемчуг, не счесть шести щепоток! Но что-то, видно, вылетело из головы, озабоченной совсем другими делами, и, хотя Алена в отчаянии не только хлебные ковриги, но и устье печи, и все углы в избе закрестила, печево снова не удалось.
Ни в горницах у Лопухиных, ни в Преображенском, ни в Коломенском, ни в Измайлове, ни, разумеется в кремлевских теремах ей не доводилось заниматься стряпней. На то есть Хлебенный двор, Сытенный двор, поварни… Дунюшку — ту учили хозяйству, потому что боярыне надлежит многое знать и слуг учить. А Аленка что? Рукодельница, комнатная девка, молитвенница. У нее и душа-то не лежала к бабьим делам.
Вот и наказал Бог…
Видно, в наказание за колдовские проделки поместил он Аленку на малом болотном острове, куда пробраться можно даже не тропкой, поди проложи тропку по топкому месту, а по приметам: то правь путь прямо на раздвоенное дерево, то — на разбитую громом ель. Жили там бабы, которым оставаться в селах сделалось уж опасно — жена Баловня Баловниха, другие жены с детьми и неведомо чья бабка Голотуриха. Там поставили им избы, туда принесли на плечах запасы крупы и муки, а навещали их не часто. Сидят в безопасном месте — и ладно, у мужиков руки развязаны.
Как вел Аленку туда за собой Федька — думала, не дойдет. Немалый кусок пути пришлось брести по сырому, упругому мху. Увязнуть в нем не увязнешь, а шагать тяжко, версты три Аленка еще держалась, а потом норовила на каждую кочку присесть. Ноги промочила, полы длинной ферезеи и края рукавов набрякли болотной водой — прямо тебе вериги, как у пустынника…
Федька шагал впереди — легко ему, долговязому дураку! Оборачивался и удивлялся — как это баба может от него отставать? Он-то с мешком за плечами, а она-то с пустыми руками… Весь день так-то шли, вечером добрались до жилья. Федька устроил Аленку кое-как в крошечной пустой избушке — прошлой зимой там жена Агафона Десятого с двумя детьми до смерти угорела — и повалился на пол, заснул — не добудишься. Утром же ушел, постылый, на прощание снова жениться пообещал!
Не думала Аленка, что доведется ей жить в черной избе с холодными сенцами, где не повернуться. Сейчас, пока осеннее тепло еще держится, еще бы ладно, а что зимой будет? Того гляди — холода припрут, ведь уж Филипповки на носу… При единой мысли о зиме Аленка принималась бормотать молитвы и креститься на единственный образ в углу, и тот — незнамо чей, до такой меры почернел.