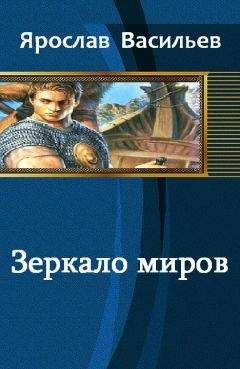Мервин Пик - Горменгаст
Титусу уже дважды приходилось сидеть здесь под замком за вопиющие нарушения иерархического устава — хотя он так и не смог в точности уяснить, в чем они, собственно, состояли. Однако на сей раз отсидка ему предстояла куда более длительная. Впрочем, было облегчением знать уж и то, какое наказание его ожидает: когда Флэй оставил его на опушке леса, отделенной от Замка всего парой миль, страхи Титуса усилились настолько, что он принялся воображать кары самые жуткие. В Замке он появился ранним утром, успев застать три свежие поисковые команды, выстроившиеся в краснокирпичном дворе и уже готовые выступить. В конюшнях седлали лошадей, всадники выслушивали последние указания. Титус набрал побольше воздуху в грудь, вошел во двор и, глядя прямо перед собой, пошел по нему — сердце буйно колотится, лицо в испарине, штаны и рубашка изодраны в клочья. В тот миг мальчик радовался тому, что он — наследник возвышавшейся над ним гигантской груды камня и пространств, которые он пересек в это утро под ранним солнцем. Он стискивал кулаки и высоко держал голову, однако, не дойдя дюжины ярдов до крытой галереи, вдруг ощутил, что на глазах его закипают слезы, и побежал, и наконец, ворвался в комнату Фуксии — растрепанный преступник с горящим взором, — кинулся к сестре и приник к ней, точно дитя.
Сестра обняла его и впервые за всю свою жизнь поцеловала и неистово стиснула в объятиях; она любила его, как никогда никого не любила, и такая гордость тем, что он прибежал именно к ней, наполнила ее, что Фуксия в варварском торжестве завопила во весь свой юный, пронзительный голос и, оторвавшись от брата, подскочила к окну и плюнула прямо в утреннее солнце.
— Вот, что я о них думаю, Титус! — прокричала она, и брат подбежал к ней, и тоже плюнул, и оба расхохотались и хохотали, пока не повалились, лишившись сил, на пол, и не покатились по нему, в головокружительном восторге тиская друг дружку, и не утихли наконец изнуренные, лежа бок о бок, держась за руки и плача от открывшейся им взаимной любви.
Им, изголодавшимся по любви, но даже не сознававшим, что этот голод и порождает в них смятение, не сознававшим и самого смятения, в одно и то же мгновение открылась истина, вызвав потрясение, нашедшее себе один только выход — в телесной возне. В единый ослепительный миг они отыскали в себе веру друг в друга. Они посмели одновременно раскрыть сердца: Титус перед Фуксией, она — перед братом. Истина явилась им — эмпирическая, иррациональная, волнующая до пугливой дрожи. И состояла истина в том, что она, поразительная девушка, нелепо незрелая в свои двадцать лет, и все же щедрая, как бывает щедрым урожай, и он, мальчик, стоящий на пороге головокружительных открытий, связаны — более чем кровью, и одиночеством наследственного положения, и отсутствием матери, в обычном смысле этого слова, — более, чем всем этим связаны мгновенно возникшими узами сострадания и единства, узами, кажется, столь же нескончаемыми, как череда их предков, столь же смутными, неуяснимыми, неисследованными, как земли, ставшие темным их наследием.
Для Фуксии увидеть перед собой не просто брата, но мальчика, в слезах прибежавшего к ней, потому что ей, ей, единственной во всем Горменгасте он доверял — о, это искупало все. Какое ей дело до целого мира — она пошла бы на смерть, чтобы защитить брата. Она бы солгала для него! И как солгала! Она бы украла ради него! Ради него она бы убила! Фуксия поднялась на колени и, воздев сильные, округлые руки, испустила громкий, бессвязный вопль непокорства, но тут отворилась дверь и на пороге комнаты возникла госпожа Шлакк. Рука нянюшки, лежащая на дверной ручке, до коей она не доставала головой, дрогнула, когда старушка, изумясь, увидела стоящую на коленях девушку и услышала ее необузданный вопль.
За нянюшкой маячил, подняв брови, мужчина с впалыми щеками, облаченный в серую ливрею с поясом из какой-то морской водоросли, — именно такой полагалось, в согласии с неким принятым многие десятилетия назад невразумительным законом, носить лицу, исполняющему обязанности, кои исполнял ныне он. Гирляндочка золотистой травы спадала вдоль правой ноги его до колена. Погоды стояли сухие, и трава похрустывала при всяком его движении.
Титус, первым увидевший их, вскочил на ноги. Однако рот первой успела открыть госпожа Шлакк:
— Посмотрите на ваши руки! — запыхтела она. — На ваши ноги, ваше лицо! Ох, слабое мое сердце! Посмотрите на грязь, на ссадины и царапины, и, и, ох, моя нехорошая, нехорошая светлость, посмотрите на ваши лохмотья! Ох, я могла бы отшлепать вас, да, могла бы, как подумаешь, сколько я всего перештопала, и отстирала, и отгладила, и перебинтовала. О да, еще как могла бы, могла бы отшлепать, и пребольно, вашу жестокую, грязную светлость. Как ты мог. Как ты мог? А я, у меня сердце почти остановилось — да только тебе не до того, о нет, пусть я даже…
Впалощекий прервал ее жалостную тираду.
— Я должен отвести вас к Баркентину, — просто уведомил он Титуса. — Умойтесь, господин мой, и постарайтесь не задерживаться.
— А этому что от него нужно? — негромко спросила Фуксия.
— Не могу знать, ваша светлость, — ответил впалощекий. — Но ради блага вашего брата, почистите его и помогите придумать основательное оправдание. Возможно, оно у него уже имеется. Я не знаю. Не могу знать.
Водоросли его сухо хрустнули — он отвернулся от двери, уставив лукавый взгляд в потолок.
II
Последовавшая неделя стала длиннейшей в жизни Титуса, даже несмотря на незаконные визиты Фуксии в Лишайный Форт. Она отыскала неприметное, узкое оконце, через которое передавала брату все, какие исхитрялась скопить, хлеб и фрукты, тем самым разнообразя удовлетворительную, но малоинтересную еду, которую сторож, — по счастью, глухой старик — готовил для своего неоперившегося узника. Через то же оконце Фуксии удавалось пошептаться с братом.
Баркентин прочел Титусу продлинновенную лекцию, подчеркнув в ней ответственность, каковой ему предстоит облечься; но поскольку Титус с самого начала держался за историю о том, как он заблудился и не смог отыскать дорогу домой, единственным его преступлением сочтено было то, что он вообще куда-то ускакал. Дабы оценить таковой проступок, пришлось снять с высоких полок несколько тяжелых фолиантов, сдуть и стряхнуть пыль с их страниц — и наконец, отыскать соответственные стихи, содержащие прецедент для вынесения приговора: семь дней в Лишайном Форту.
За эту неделю морщинистая да и вообще отвратная физиономия Баркентина, «Властителя Грамот», часто являлась мальчику в ночной тьме. Не менее четырех раз Титусу снилось, как этот калека с жестким ртом и слезящимися глазами гонится за ним с замызганным костылем, ударяя им, будто молотом, в каменные плиты, как струятся за преследователем багровые лохмотья должностной дерюги, как оба они несутся по нескончаемым коридорам.
А просыпаясь, он вспоминал Стирпайка, стоявшего за креслом Баркентина или взлезавшего по стремянке, чтобы отыскать нужный том; вспоминал, как этот бледный мужчина, ибо таковым он был для Титуса, ему подмигнул.
Ничто из того, что знал Титус, никакие силы рассудка ничем тут помочь не могли — он испытывал отвращение, внутренне отшатывался от этого подмигивания, как отшатываешься от касания жабы.
В один из вечеров сотая по счету попытка Титуса пробить деревянную дверь складным ножом, который мальчик метал в нее, полагая, что именно такое применение находят ножам разбойники, была неожиданно прервана. Утром он вдосталь наплакался, поскольку солнце сияло в узких оконных амбразурах, и Титус изнывал по свежему в его памяти дикому лесу, по господину Флэю и Фуксии.
Прервал же попытку негромкий свист, донесшийся от одного из оконцев, и, подойдя к нему, мальчик услышал хрипловатый шепот Фуксии:
— Титус.
— Да.
— Это я.
— О, здорово!
— Я надолго не смогу.
— Не сможешь?
— Нет.
— Ну хоть чуть-чуть, Фуксия.
— Нет. Должна занять твое место. Очередной идиотский обряд. Будем драгой искать во рву Утерянные Перлы или еще какую-то дрянь. Я уже должна быть там.
— А!
— Но я вернусь, как стемнеет.
— Здорово!
— Ты мою руку видишь? Дальше мне никак не достать.
Титус, как смог далеко, протянул руку сквозь оконную щель в пятифутовой стене, но нащупал лишь кончики сестриных пальцев.
— Мне пора.
— Эх!
— Тебя скоро выпустят, Титус.
Безмолвие Лишайного Форта окружало брата с сестрой, подобно глубокой воде, и соприкасающиеся пальцы их могли быть носами затонувших кораблей, что трутся один о другой в подводных глубинах — таким огромным и живым и все же таким нереальным казалось их соприкасание.
— Фуксия.
— Да.
— Я должен кое-что тебе рассказать.