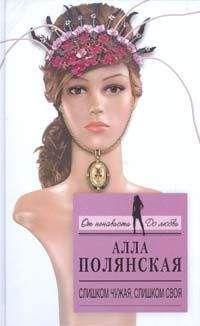Юлия Остапенко - Легенда о Людовике
Она не знала, что отразилось на ее лице и отразилось ли. Стояла просто, словно врастя в пол шелковыми синими складками своего платья, горя и не смея поднять глаза. И вдруг Луи шагнул к ней и обнял ее, прижавшись своей щекою к ее щеке. Он сильно вырос за последнее время и был уже одного росту с ней — еще немного, и она сама сможет склонить усталую голову на его широкое, пахнущее потом и кожей плечо.
Она не шелохнулась, не сказала ничего, и он не сказал. Они постояли так с минуту, в тишине и полумраке. Потом Луи отступил, немного неловко, будто устыдившись собственного порыва. Бланка задержала его руку в своей.
— Ты прощаешь меня? — чуть слышно спросила она, пытливо вглядываясь в его глаза — посветлевшие, слава Господу нашему Иисусу Христу. Луи покачал головой; голос его звучал хрипло, когда он сказал:
— Я не в праве прощать вам, матушка, как не вправе вас и судить. Вы сделали больно мне, и я не могу одобрять ваш поступок, но Господь знает, что дурного не было в сердце вашем, и быть не могло. На Господа и станем уповать. Я помолюсь сегодня за вас, хотя, впрочем, я всегда молюсь за вас, — неловко закончил он и отвернулся опять к камину, встав почти точно так, как стоял, когда она только вошла.
Бланка легко положила ладонь ему на плечо. Странно, прежде она не замечала, каким оно стало широким и сильным, это плечо. Он так быстро растет, а ведь ему всего только четырнадцать лет.
— Луи, — тихо сказала она, — кто вам рассказал?
Он молчал долго, глядя в огонь. Потом ответил глухо и отрешенно:
— Никто.
— Сын мой, вы никогда и ничего не скрывали от вашей матери.
— Я не скрываю! Никто! — с досадой воскликнул он и отвернулся, словно пряча от Бланки лицо.
Легкий холодок пробежал у Бланки по спине, хоть она и сама не знала, отчего ей в тот миг сделалось жутко.
— Тогда как вы…
Она увидела, как затвердела его нижняя челюсть, и умолкла, нутром почуяв, что не должна настаивать. Странным образом тут ей вспомнился случай на Ланской дороге и свет, который видел Луи. Дело так и не было передано в Ватикан — положение в королевстве было слишком беспокойным, и подобное расследование пришлось бы не ко времени. Бланка не знала, отчего сейчас подумала об этом — но чутье подсказало ей, что тогдашний случай и сегодняшний были как-то связаны между собою.
— Скажите, — спросил Луи неожиданно резким тоном, — там был Амори де Монфор, и он преклонил пред вами колена… так?
Бланка молча кивнула, не сводя с него глаз.
— И он был с непокрытой головой… он один среди всех остальных, и волосы у него были завиты и напомажены, будто он только недавно побывал у цирюльника. Так было?
Бланка посмотрела на него с удивлением, не понимая, какое это имеет значение. Но все же напряглась, пытаясь припомнить — в тот миг все плыло у нее перед глазами, и на подобные мелочи внимания она не обратила. Но сейчас, когда Луи сказал, вспомнила. Не оттого, что разглядывала Монфора, но когда он встал перед ней на колени, она посмотрела на его темя и увидела, что его волосы и вправду разделены правильным пробором и красиво уложены, и еще от них пахло миндальным маслом. И вот этот запах Бланка помнила совершенно явно, потому что не выносила его, а ей в тот миг и без того чуть не сделалось дурно, и этот запах… Ей тогда в голову не пришло, отчего это сир Амори так расфуфырился — должно быть, накануне имел свидание с супругой дурачка де Сансерра; об этой их связи знали все, кроме самого де Сансерра. Но да, да, так все и было, он ровно так и выглядел, как описал ее сын.
Но как мог Луи об этом знать? Кто бы ни поведал ему о поступке его матери, разве стал бы он вдаваться в такие подробности? И разве стал бы сам Луи, потрясенный случившимся, расспрашивать… нет. О нет. Но как же тогда он узнал, разве только…
«Что за глупости», — подумала Бланка, вновь чувствуя холодок, пробежавший по коже. Как мог он видеть все это сам ? Его не было там, в том она могла бы поклясться. И он так безмятежно тренировал своего брата во дворе, когда она вернулась — нет, нет, никак его не могло быть в Ситэ. Где же еще он мог это увидеть? Не в огне же камина, куда вглядывался так, словно…
«Если не Божий это был свет, матушка, то чей?» — вспомнила Бланка, и холод, сперва только касавшийся кожи, пронзил ее до костей.
— Людовик… — сказала она, и он тут же обратил к ней взгляд, затуманенный мыслями, которых она — Бланка поняла это с болезненной ясностью — никогда не сможет узнать.
Она взяла его за руку, потянула к софе, стоящей в углу, и, заставив сесть, села сама. Потом обняла рукой за шею и коснулась лбом его лба, а когда он напрягся, тихонько шикнула, как делала, когда он был еще совсем крошкой и просыпался, бывало, в ночи, дрожа от дурного сна.
И так сидели король и королева Франции, обнявшись, прислонясь друг к другу, одни посреди темных покоев, в темном дворце, в городе, на который спускалась ночь.
Глава четвертая
Бовези, 1231 год
— Этот фрукт, ваше величество, называют оранжем, — сказал Милон де Нантейль, епископ Бове. — Сие лакомство дивной сочности привезли нам из самой Мавритании, где оно в обилии произрастает. Внутри он точно такого же цвета, как и снаружи, взгляните. А уж вкус — истинно королевский, могу вас в этом заверить. Угодно ли попробовать? — заискивающе добавил епископ и уже потянулся пухлой рукой к блюду, намереваясь собственноручно очистить диковинный фрукт от кожуры, когда Бланка сказала:
— Вы очень любезны, ваше преосвященство, но нынче Великий Пост, и по пятницам в это время сын мой не ест ничего, кроме рыбы.
Епископ застыл, подавшись к тарелке, а потом неловко убрал руку. Бланка безмятежно глядела ему в лицо.
— О, — произнес де Нантейль, умело пряча вспыхнувшее замешательство. — Сие в наивысшей степени похвальное благочестие, кое может служить лишь лучшим из возможных примеров для подданных и вассалов его величества.
Сказав эту напыщенную фразу, епископ Бове умолк, сконфуженно пряча глаза. Упоминание о Великом Посте, сделанное Бланкой вполне умышленно, явилось разительным контрастом обеденному столу, накрытому де Нантейлем для своих венценосных гостей. Белый хлеб, жареные каштаны, голубиный паштет, мед, несколько бутылок изысканного вина шампанской марки и, разумеется, фрукты, включая и диковинные оранжи, — стол, который постным можно было назвать, лишь нещадно кривя душой. Епископ кинул взгляд на яства, видимо, отчаянно пытаясь отыскать среди разнообразия блюд то, которое можно было бы предложить королю ввиду новых неожиданных обстоятельств.