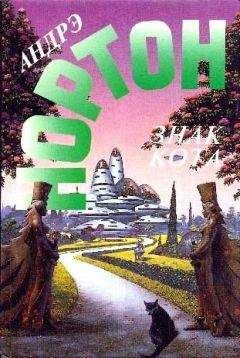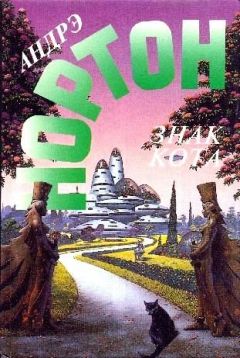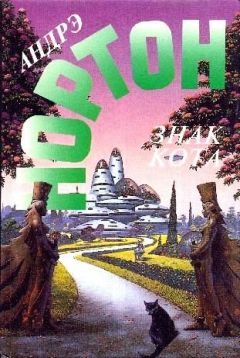Андрэ Нортон - Знак кота. Гнев оборотня
Затем старик поднял с колен кифонг. Он держал инструмент, как своё дитя, любимое и дорогое. И он протянул арфу мне.
— Возьми её, сын пустыни, возьми и верни туда, где ей должно быть. И скажи той, что ждёт, — игра началась, и назад пути нет.
Я взял арфу у него из рук, отложил её в сторону и подхватил старика. Кинрр согнулся в приступе кашля, на губах выступили кровавые пузыри, из уголка рта потекла струйка крови. Наконец он выпрямился и снова посмотрел на звёзды.
— Некоторые думают, что звёзды — это другие миры. Мальквин говорил об этом. Если так, то и на них люди тоже живут и умирают, их помнят, потом забывают. Кто был Каланд? — его голос усилился.
— Ни разу не слышал о таком.
— Ни разу не слышал о таком, — передразнил он. — С прошествием сезонов забывать всё легче. Тот, кто встал против Великой Тьмы, забыт, и так же забудут про неё, и может быть, даже ещё быстрее, и я заклинаю тебя, о сын пустыни, заклинаю Заканом и Державой, Алмазом и Саблей…
Я не мог прервать его речь, по коже пробежал мороз, я понял, что происходит — он налагает на меня заклятие, которое не будет снято до тех пор, пока я не выполню его просьбу. А если верить старым сказкам, последняя просьба умирающего — ноша, которую возьмёт на себя не всякий.
— Отправляйся в Вапалу, — его голос снова ослаб. — Скажи… скажи моей повелительнице, что я сдержал свою клятву… так пусть она сдержит свою…
Его голова откинулась мне на плечо, и с губ сорвался высокий, чистый звук. Последняя нота недопетой песни.
И я остался с мёртвым на руках и тяжёлой ношей на душе, сбросить которую никак не мог. Делать нечего придётся идти в Вапалу.
Глава четырнадцатая
Звон, наполнявший город, проникал повсюду. Пение маленьких мобилей давно стало неотъемлемой частью нашей жизни, и мы не обращали на них внимания. От могучих ударов Императорского Мобиля тряслись даже стены вокруг. В ту ночь уснуть было невозможно, и когда такое случалось, то Равинга использовала это время для работы.
Тяжёлые занавеси надёжно укрывали комнату и наружу не вырывалось ни малейшего лучика света. А внутри горело шесть ламп, по три на каждом конце стола, и их яркий свет не позволял ни малейшей детали нашей работы ускользнуть от наших глаз.
Пальцы Равинги порхали над столом с иголками, маленьким паяльником, с какими–то крошечными инструментами, которые и в руках–то удержать почти невозможно, и кукла под её руками принимала всё более определённую форму. Согласно заказу последнего клиента, она делала посмертную куклу — куклу Императора.
Мне она поручила другую работу. Я ещё не знала когда надо сказать нужное заклинание, или какой пасч сделать, прежде чем взяться за маленькие инструменты Поэтому я делала фигуру не человека, а песчаного кота. Наши домашние котти устроились сбоку, не сводя с меня внимательных глаз.
На столе передо мной лежал эскиз, каждый его уголок прижимала резная статуэтка. Статуэтки тоже были символами силы. Одна — копия Голубого Леопарда, верно служащего Императору, вторая — як, самка–вожак стада, гордая и сильная, избранная по праву. Третьей была котти, вырезанная из какого–то очень плотного черного камня, гладкая, точно стеклянная на ощупь, и необычно тяжёлая для своих размеров; а четвёртой фигурой являлся человек, лицо которого было очерчено так уверенно, что не могло быть ничем иным, как портретом. Портретом человека, которого я знала, о котором втихомолку шептались на рынке, о котором говорили, что даже в собственной семье ему не нашлось места, таким он был малодушным, этот Хинккель из Каулаве.
Самостоятельную работу такой сложности Равинга доверила мне впервые, потому я работала вдвое медленнее её. В замкнутой комнате было жарко, я сбросила блузу и, склонившись над крошечной фигуркой, всё чаще стирала рукой пот со лба.
Равинга вставила в корону куклы последний почти невидимый драгоценный камешек. Затем повернула куклу в руках, критически оглядывая её.
Трижды я видела Императора достаточно близко, чтобы рассмотреть его лицо. Это могла быть кукла, но искусство Равинги отразило в ней столько жизни, что я ни капли не удивилась бы, если бы крошечный император вдруг выскользнул бы у неё из пальцев и зашагал по столу сам по себе.
Она аккуратно поставила его на подставку из чёрного камня и нетерпеливым движением повернула ко мне лицом.
— Хорош? — хозяйка ждала правдивого ответа. За все годы, что я наблюдала за её работой, она в первый раз спрашивала моего мнения.
— Клянусь всем, что знаю, хозяйка, — поспешила ответить я, — воистину это сам Хабан–дзи.
Ревниво придерживая одной рукой своё творение, Другой она подала мне знак.
Опустив глаза, я посмотрела на свою куклу. Она тоже была окружена ореолом жизни. Казалось, ещё немного — и она оценивающе взглянет на меня, словно настоящий кот, гроза пустыни.
— Говори! — скомандовала моя хозяйка. Я облизнула пересохшие губы и присела так, что мои глаза оказались на одном уровне с глазами куклы.
— Хинккель, — назвала я имя куклы, прижимавшей справа ткань с рисунком. — Воин пустыни…
Жёлтые глаза не дрогнули. В ответ не пришло ни звука — да и ожидала ли я ответа? Я указала маленьким инструментом, который всё ещё сжимала в руке, и снова заговорила негромким, но не допускающим возражений голосом:
— Ступай!
Песчаный кот потянулся, словно котти — вытянув передние лапы, напружинив задние, ну точно котти, собирающийся крадучись выйти в ночь. Он сошёл с центра ткани, его шкура переливчато светилась, чем–то странно напоминая древний рисунок на коже, на которой только что лежал.
Равинга ещё раз повернула фигурку Хабан–дзи, теперь лицом к сделанной мною кукле.
Откуда–то из–за спины она выдернула кусок тонкого шёлка, вышитого серебряными леопардами, взмахнула тканью и окутала ею куклу Императора. Теперь кукла казалась мне самой обыкновенной, ореол жизни вокруг неё совершенно исчез.
С котом же такого не случилось. Он повернул голову и посмотрел на куклу Хинккеля. Можно было подумать, что между ними проскользнула искра общения. Равинга протянула руку и подхватила фигурку кауланина.
Она поставила его рядом с котом и оглядела эту парочку, придирчиво прищурившись, словно высматривая упущения в работе.
А затем снова односложно скомандовала:
— Зови!
Я повиновалась:
— Хинккель!
И напряженно застыла. Мне не нравился этот обряд, проходивший помимо моей воли. Все эти годы я понимала, что она использует меня, подавляет мою волю своей волей. Внутри шевельнулись старые обиды. И всё же она никогда не считала меня просто одним из инструментов, которые можно отложить в сторону, когда вздумается, и взять снова, когда понадобится.