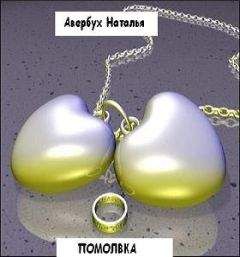Ольга Григорьева - Ладога
Я развязал сумку, достал последний сухарь и протянул его старухе:
– Возьми, угостись, коли хочешь, мне все равно ничего в горло не лезет.
Старуха постаралась сохранить крохи достоинства, неспешно взяла сухарь, но в единственном глазу задрожали слезы.
– Спасибо.
Когда сухарь был уже почти съеден, вошел Чужак. Мокрый, злой, с пустыми руками. И ведь не спросишь его, куда ходил? А коли спросишь, ответа не дождешься…
Он быстро вытер руки, подошел к Лису.
– Держи теперь, – сказал, на меня мельком покосившись.
Я, вмиг о старухе забыв, брата за плечи схватил. Крепко схватил, будто мог объятием своим его от смерти заслонить…
Тонкие пальцы ведуна забегали по страшной ране, надавили на закрытые глаза, потянули веки вверх, закатившиеся белки открывая.
Странной была его ворожба. Сновидица больше нашептываниями и травками лечила, а знахарка из печища дальнего – заговорами да дымом. Нам с братом не раз на охоте доставалось, но никогда еще я такой ворожбы, какой Чужак брата спасти пытался, не видел.
Покуда дивился я, он вытянул из котомки гриб-дождевик, который в каждом лесу после дождя во множестве встречается.
Дождевик – смешной гриб, с собратьями не схожий, – круглый, будто шар. По молодости он белый да пузырчатый, а как состарится, становится будто дед ворчливый – ступишь на него – фыркнет, окатит ногу обидчика дымом коричневым. К чему Чужак его приволок? Удивлялся я недолго – рубанул ведун ножом маковку у гриба да высыпал пыль дымную в Лисью рану. Покрылась она бурым налетом, будто пеплом. Захотелось сгрести эту грязь с плоти яркой, очистить ее от темной волшбы.
– Стой! – Чужак мою руку перехватил, к столу прижал. – Я свое дело знаю. И без того сил много трачу на рану пустую. Была бы игла железная да нить шелковая, не пришлось бы мне делать этого. А будешь мешать – брошу его как есть.
Я покрепче пальцы в дерево гладкое вдавил, чтоб не сорваться ненароком, голову опустил. Верно Чужак подметил – я его сам просил о помощи, а теперь под ногами путаюсь… Хотя опасался я верно: никто Чужака толком не знал, никто его лица не видел. Да и к чему он от родичей прятался, тоже не ведали. Болтали много об уродстве и о божьем проклятии, только все разговоры эти пустыми слухами были. Я-то видел его однажды. Это случилась в детстве еще, когда, воображая себя настоящими охотниками, мы с братом незаметно подбирались к дому Сновидицы и до утра в засаде просиживали, от собственной смелости пьянея. Случайно поздней ночью нам удалось подкараулить Чужака. Он шел со стороны болота и, не подозревая о нас, откинул капюшон с лица. Я тогда здорово разочаровался. Все село болтало об его уродстве, а разглядел я простую мальчишечью физиономию. Отличался он от наших знакомых ребят – это верно. Глаза были странноватые да волосы не такие, как у всех, а все же уродом не назовешь. Он тогда, словно почуяв что-то, быстро вошел в избу и с той поры без капюшона на дворе не появлялся. Да и мы к нему интерес потеряли. А потом я и вовсе о нем забыл. Даже когда он оказался в числе избранных, я лишь удивился: «К чему такой Князю?» Не знал тогда, от кого будет вся жизнь моя зависеть.
– Крепче держи! – прервал он мои воспоминания и вдруг зажал пальцами рану страшную, будто хотел края ее срастить. Лис застонал тяжко, задергался – еле удержал его, а Чужак уже руки от горла его оторвал, принялся водить кругами над раной слепленной, словно посыпал ее чем-то. Я сперва не понял ничего, а потом охнул от неожиданности и отпустил Лиса. На мое да на свое счастье затих он сам, будто чуял, что творится с телом его. А я воочию видел, лишь поверить не мог! Не шепотком ворожейным лечил Чужак – руками голыми. Разрыв страшный под его ладонями тонкой корочкой покрывался, розовел свежей кожицей, а те маленькие трещинки, что от него тянулись, уже бугрились зажившими шрамами, будто не этой ночью Лиса порвали, а давно когда-то.
Бабка-хозяйка, мой возглас заслышав, из угла вылезла, вытянула шею – посмотреть, да, руками всплеснув, замерла посреди горницы.
– Чур… Колдун… – зашептала.
Нет, не колдовство тут было – нечто иное, разуму недоступное.
– Все! – Чужак тряхнул руками, будто сбросил с них груз невидимый, прочь от стола отошел, в котомке поковырялся и протянул мне аккуратный махонький мешочек. – Возьми да по щепотке три раза в день брату давай – поутру, в полуденницу и на вечерней зоре. Тогда и Огнея его стороной обойдет.
У меня руки тряслись, когда брал его дар, губы дрожали, но любопытство, что лист банный, – коли прицепится, не отлепить. Не сдержался я, макнул палец в мешочек, понюхал порошок белый, что к нему пристал. Пахнуло на меня знакомым запахом. Старуха тоже возле меня завертелась, носом потянула, удивилась:
– Плесень вроде…
– Для тебя – плесень, для него – жизнь, – отозвался Чужак да кинул небрежно бабке монетку серебряную, видать единственную свою ценность. – А чем болтать попусту, сходила бы лучше к Старшему да поесть принесла.
Старуха покачала головой:
– Наш Староста не очень честный человек, колдун. Он и монетку заберет, и вас погубит, дабы никто ни о чем не проведал.
Некоторое время Чужак размышлял, от губ под темную ткань капюшона побежали тонкие разрезы морщин.
– Ну, как знаешь… Добудешь еды для моих людей – награжу, а на нет и суда нет.
– Какой награды от колдуна ждать? Да и будет ли добро с той награды? – осмелела вдруг старуха.
Верно она подметила – даже богам неведомо, чего от ведуна могучего ждать. А Чужак, по всему, не из слабых был…
– А я не совсем колдун. – Он опустился устало на лавку, вытянул длинные ноги к печи поближе. – Ты про меня многое знаешь, да сама того не ведаешь…
Старуха закряхтела, засопела. Спрашивать в открытую у странного незнакомца имя не решалась, а обиняками – слов не могла сыскать.
– Для меня ты гость незнакомый, – начала осторожно, – пристанища попросивший. И друзья твои, опосля пришедшие, тоже гости, не более…
– А коли так, – перебил ее Чужак, – уважь просьбу гостя!
Попробуй возрази ему, когда говорит так…
Старуха смирилась, поплелась покорно в завесу дождевую да, озлившись, напоследок дверью хлопнула, Бегуна разбудила. Тот глаза, со сна осоловевшие, вскинул, потер их, недоуменно на Чужака уставившись, – не мог уразуметь, что не сон ему снится.
– Сколько я спал? – ни к кому не обращаясь, спросил и, чуть не подпрыгнул, услышав бесстрастный ответ:
– Чуть поболее дня да ночи…
Не понимая, шутит ведун иль всерьез говорит, Бегун заозирался. Натолкнулся взглядом на Славена, вздохнул:
– Все по-прежнему…
А потом Лиса увидел и оторопел, глаза расширяя. Заплескались в голубизне их небесной удивление да растерянность… Кабы я сам не видел, что Чужак с раной смертельной сотворил, то на горло брата зажившее не лучше Бегуна воззрился бы.