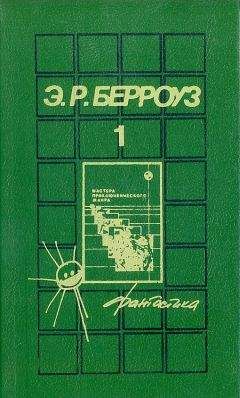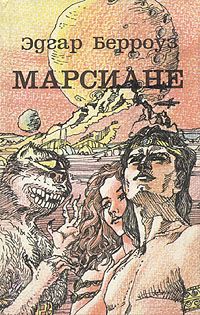Патрик Ротфусс - Имя ветра
Я никогда раньше не видел Бена в таком плохом настроении. Боясь, что разрушил все между нами, я повернулся и побежал к родительскому фургону.
Мать сидела перед только что разведенным костром, медленно добавляя в огонь веточки, чтобы он разгорался. Отец растирал ей шею и плечи. Они оба повернулись на звук моих торопливых шагов.
— Можно, я сегодня поужинаю с Беном?
Мать посмотрела вверх, на отца, затем снова на меня.
— Не будь назойливым, милый.
— Он пригласил. Если я пойду сейчас, то смогу помочь ему устроиться на ночь.
Мать шевельнула плечами, и отец снова принялся их растирать.
— Тоже верно, только не задерживайся до утра, — сказала она и улыбнулась мне. — Поцелуй меня.
Я обнял и поцеловал ее.
Отец тоже меня поцеловал.
— Дай-ка сюда свою рубашку. Будет чем заняться, пока твоя мать готовит ужин. — Он снял с меня рубашку и ощупал порванные края. — Да она совсем дырявая — больше, чем положено.
Я начал бормотать объяснения, но он отмахнулся.
— Знаю, знаю, это все ради благой цели. Будь аккуратней, а не то придется тебе самому чинить рубашки. В твоем сундуке есть другая. Принеси мне заодно иголку с ниткой, будь так любезен.
Я бросился в заднюю часть фургона и вытащил чистую рубашку. Копаясь в поисках нитки с иголкой, я услышал, как моя мать запела:
По вечерам, когда уходит солнце в тени,
Я с высоты буду выглядывать тебя.
Давно уж вышли сроки возвращенью,
Но я живу, по-прежнему любя.
А отец ответил:
Под вечер, только начал меркнуть свет,
Я к дому наконец направил шаг.
Вздыхает ветер в ивовой листве.
Пускай в ночи не гаснет твой очаг.
Когда я вылез из фургона, отец нависал над матерью в эффектном наклоне и целовал ее. Я положил нитку с иголкой рядом с рубашкой и стал ждать. Поцелуй выглядел весьма приятным. Я наблюдал внимательно, смутно догадываясь, что в будущем мне тоже захочется поцеловать даму. Если такое в конце концов случится, я желал проделать все грамотно.
Через минуту отец заметил меня и снова поставил мать на ноги.
— С тебя полпенни за представление, мастер подглядыватель, — расхохотался он. — Почему ты еще здесь, парень? Могу поспорить на те же полпенни, что тебя задержал какой-то вопрос.
— Почему мы останавливаемся у серовиков?
— Традиция, мой мальчик, — торжественно сказал он, широко разводя руками. — И суеверие. Что, в общем-то, одно и то же. Мы останавливаемся для удачи, и все радуются неожиданному отдыху. — Он помолчал. — Я знал даже стишок о них. Как там было?..
И как будто тяговик, даже во сне,
Стоит камень, где дорога подревнее.
Это путь, что заведет далеко в Фейе.
Настовик в долине или на холме,
Серовик ведет во… что-то, что-то… ме…
Отец постоял секунду, глядя в пространство и покусывая нижнюю губу, потом покачал головой:
— Не могу вспомнить конец. Господи, как я ненавижу поэзию! Как можно запомнить слова, не положенные на музыку? — Его лоб собрался складками от сосредоточенности, пока он прокручивал про себя слова.
— А что такое тяговик? — спросил я.
— Старое название лоденников, — объяснила мать. — Это кусочки звездного железа, они притягивают к себе другое железо. Я видела один много лет назад в шкатулке с диковинами. — Она посмотрела на отца, все еще бормочущего про себя. — Мы ведь видели лоденник в Пелересине.
— А? Что? — Вопрос вытряхнул отца из размышлений. — Да, в Пелересине. — Он снова прикусил губу и нахмурился. — Помни, сын мой, даже если забудешь все остальное: поэт — это музыкант, который не может петь. Словам приходится искать разум человека, прежде чем они смогут коснуться его сердца, а умы людей — прискорбно маленькие мишени. Музыка трогает сердца напрямую — не важно, насколько мал или неподатлив ум слушающего.
Мать издала не слишком подобающее даме фырканье:
— Ах, какие мы элитарные. Просто ты стареешь. — Она испустила театральный вздох. — Вот память и изменяет тебе.
Отец принял картинную позу крайнего негодования, но мать уже повернулась ко мне:
— Единственная традиция, которая притягивает артистов к серовикам, — это лень. Стишок должен быть такой:
И в какое бы время
Я ни шел по дороге,
Мне любой повод годен:
Пастовик или лоден —
Чтоб сложить свое бремя
И вытянуть ноги.
В глазах отца зажегся непонятный огонек.
— Старею? — произнес он тихим низким голосом, снова начиная растирать ей плечи. — Женщина, я намерен доказать, что ты ошибаешься.
Она шутливо улыбнулась:
— Сэр, я намерена позволить вам это.
Я решил оставить их в покое и уже бежал к фургону Бена, когда меня настиг голос отца:
— Гаммы завтра после обеда? И второй акт «Тинбертина»?
— Ладно. — Я перешел на шаг.
Когда я вернулся к фургону Бена, он уже выпряг Альфу и Бету и чистил их. Я начал разводить огонь, окружив сухие листья пирамидкой из больших прутиков и веток. Закончив, я повернулся в ту сторону, где сидел Бен.
И снова молчание; я почти видел, как он подбирает слова. Наконец он заговорил:
— Что ты знаешь о новой песне своего отца?
— Той, которая про Ланре? — спросил я. — Не много. Ты же знаешь, какой он. Никто не услышит песню, пока она не закончена. Даже я.
— Я говорю не о самой песне, — сказал Бен, — а об истории, что стоит за ней. Об истории Ланре.
Я сразу припомнил десятки историй, которые мой отец собрал за последний год в попытках выделить общие звенья.
— Ланре был принцем, — сказал я. — Или королем. Кем-то важным. Он хотел стать могущественней всех в мире. И продал свою душу за могущество, но что-то пошло не так, и потом он вроде бы сошел с ума, или не мог больше спать, или… — Я остановился, увидев, что Бен отрицательно качает головой.
— Не продавал он души, — сказал Бен. — Это сущая ерунда. — Он тяжело вздохнул и словно сдулся. — Я все делаю не так. Оставим песню твоего отца. Поговорим о ней, когда он ее закончит. Впрочем, история Ланре может дать тебе кое-какую пищу для размышлений.
Бен перевел дух и начал снова:
— Предположим, у тебя есть легкомысленный мальчишка-шестилетка. Какой вред он может причинить, если разбуянится?
Я помолчал, не зная, какого рода ответ он хочет услышать. Прямой, пожалуй, будет лучшим:
— Небольшой.
— А если предположить, что ему двадцать, но он все такой же легкомысленный?
Я решил держаться очевидных ответов:
— Все равно небольшой, но больше, чем раньше.