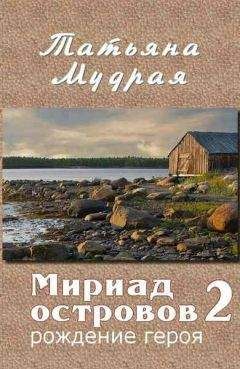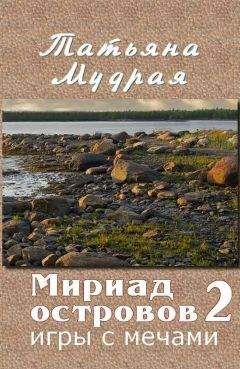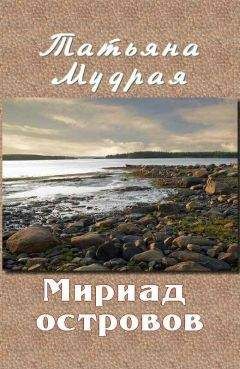Татьяна Мудрая - Мириад островов. Строптивицы
Теперь-то всё изменилось, хотя не раз бывало на грани погибели. Сад с прекраснейшими плодовыми деревьями, взращенными на привозной чёрной земле и своём навозе, грядки с лекарственными растениями и пахучими травами, цветы для статуи Девы и наших дорогих могил. Подобные ему почти во всём тучные огороды и виноградники сестёр-колумбанок через две стены от нашего обиталища — женский монастырь не напрасно возведён рядом с мужским.
И премного изобильнейшие сады, лозы и цветы возрастают, неподвластные смене сезонов, на страницах вечных и неизменных книг.
В скриптории, где рукописи переписывались, а также уснащались редкой красоты инициалами, заставками, рамками, окаймляющими текст, и миниатюрными изображениями, вкрапленными в него внутрь, — именно там и проходило наше с братом Зефирантесом послушание. Я выводил ровные ряды букв, ибо отличался грамотностью и усидчивостью; он же с помощью тончайших кисточек и ярких красок помещал мои создания — и создания других писцов — в обитель всех земных блаженств. В искусстве иллюминирования не было ему равных во всей Франзонии, да, пожалуй, и во всём Верте. Годами он был несколько меня старше, я тоже был в те времена не слишком молод, но сдружились мы не только благодаря этому, но и по некоему сродству душ.
А упомянутая морянка Экола приносила ему сырьё для работы, пожертвованное и выменянное: порошки растительных красителей, добытые из корнеплодов рачением сестёр-монахинь, животный клей от брата-скорняка, ламповую сажу, мелкую серебряную пудру и тончайшие листики сусального золота, что изготовлял брат-кузнец по имени Глебионис ради украшения храмовых статуй. Прямо к порогу скриптория.
Как, можете спросить, нашим аббатом, степенным отцом Бергением, допускался подобный соблазн?
Ну, монахини приносят не менее строгий обет, чем мы. Также отец Бергений ведал доподлинно, что блуд мужа с женой, хотя бы и мысленный, гораздо менее порицаем, чем когда особи принадлежат к одному полу. Но самое важное — когда похоть не искореняют, но направляют по загодя проточенному руслу, даёт она плоды, невиданные по своей изобильности и щедрости.
К тому же о том, что наш милый Свет Дому — девица, а не отрок, все знали только с её слов. Такое нередко с ними, морянами, случается.
И всё же то, о чем я собираюсь вам поведать, являет собою живой пример того, как через женщину, причём невинную деву, способно вторгнуться в мирную монашескую жизнь искушение поистине дьявольское.
Вы понимаете, надеюсь, что драгоценные средства для украшения книг доставлялись в скрипторий согласно уставу и распределялись поровну. Их попросту не хватало для того изобилия, коим грешил наш Зефирант во славу Божию и Пророка Езу Ха-Нохри.
Экола же была всюду вхожа, повсюду её привечали… и вы понимаете мою мысль?
— Я тебе очень благодарен, — сказал однажды Зефирантес. — Чем мог бы отплатить?
— Научите меня буквам, — ответила она просто. — Ты и твой друг Арктий. Старшая монахиня знает грамоте, да ей всё недосуг.
— Какую пользу ты надеешься из этого извлечь? — спросил я, ибо как раз находился поблизости.
Экола только зубки показала: а были они белые-белые, так и сияли на истемна-смуглой коже. Тряхнула головкой в домотканом сером покрывале:
— Ба-инхсан (то есть природный человек моря) ничего не делает для пользы, только ради интереса.
Поправила смоляную завитушку, что не по уставу на свет божий выбилась, и ушла.
Выходит, в том, что мы ей не откажем, была уверена неколебимо.
Дело получилось не тайное — аббату мы всё в тот же день обсказали, — но не для многих глаз. Договорились, что встречаться будем в привратницкой: она не совсем в стенах, чуть выступает наружу, а внутри имеется большой стол и два стула. Сам сторож, отставной солдат, не против бывает иногда прогуляться, обозреть окрестности на предмет нападения супостатов.
Девочка оказалась на диво переимчива, но Зефирантес в первый же день обнаружил, что учить её, рисуя буквы и повторяя названия, нет смысла. Книги же из монастырской либереи слишком витиевато написаны, да и громоздки — в привратницкую их таскать. Если уж не говорить о большой их ценности. Так что нужна азбука со словами.
— Такие делают в Скондии, — поделился я с другом. — И для их витиеватого письма, похожего на вьющийся хмель, и для нашего королевского минускула, потому что многие франзонцы там поселяются.
Он, конечно, знал и немало завидовал: такие книжки собирались из листов, подобных гравюре, вырезанной из бука или иных твёрдых пород дерева, потом выступы букв покрывались тушью разных цветов, накладывался лист веленевой бумаги и прокатывался поверху упругим валиком. Стоило это немногим меньше простой работы писца, но выглядело куда нарядней.
— Я ей такую штуку сделаю, — решил мой приятель. — Резать печатки меня научили, доски подходящие найдём, бумагу и краски тоже. Первое из порченного писцами материала, второе — со дна живописных склянок.
— Как наоборот чертить будешь? — спросил я.
— У меня учитель был левша, разве забыл? Брат Антирринус, Львиный Зев. Вот был мастер украшательства! Я его рабочие заметки только с помощью зеркала мог прочесть. В шутку и сам с ним такими цидулками изъяснялся.
И в самом деле — вскорости он сотворил нечто. Ни с чем не сообразное: буквы на оттиске получились разного калибра и расплывались, картинки вещей, начинавшихся с нужной буквы, еле можно было понять, но Экола была довольна.
— У нас не одна я тупа насчёт грамоты, — сказала она. — Теперь ты, брат, наделаешь таких листов много, и я раздам их юным монахиням и послушницам. А тебе будет от всех нас подарок.
— Велень не годится, — сетовал в её отсутствие брат Зефирант, — слишком много краски берёт. Бомбицина редка и тоже так себе. Опять же хлопок — это снова Скондия. Привозное. Резьба на печатных досках после двадцатой копии залохматилась по краям, а краска и подавно вся слезла. И уж раскрашивать — семь потов сойдёт!
— Со своим любимым многоцветьем ты перехватил, — отвечал я на такие вопли душевные. — Но ведь гравировщик работает не с одним деревом. Медь уж точно ничего впитывать не станет. А чёрное — это даже изысканно.
— Нет, ты представляешь, сколько надо времени для того, чтобы выцарапать что-то на металле! — воскликнул он. — И лишь для того, чтобы получить прежнюю гадость.
Мы рассуждали так, будто не было иных проблем. Ни с бумагой, ни с краской, ни вообще.
Это было в самом деле так. Жизнь в клостере движется по линейкам, что заранее расчерчены свинцовым стилом, как бумага, подготовленная для писца.