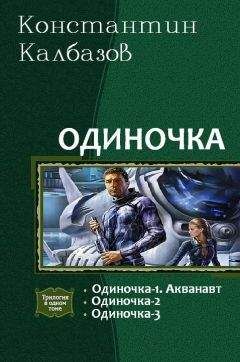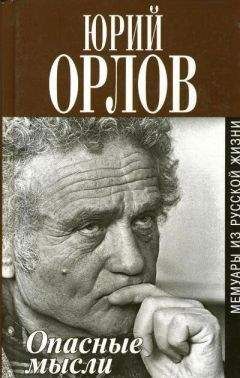Константин Мережковский - Рай земной или Сон в зимнюю ночь
И я вас спрашиваю: если мы, простые смертные, сумел", не уничтожая воли, не превращая людей в автоматы, привести их в тихую, мирную гавань счастья, то почему не сделали этого высшие силы, предположив, что они есть? Скажите, потому ли, что они не хотели, или потому, что не могли этого сделать?
Но я молчал, ибо не находил, что ответить.
Молчал и Эзрар, и оба мы просидели так некоторое время, погруженные каждый в свои глубокие думы. Но Эзрар снова заговорил:
- А привести человечество в эту мирную гавань давно уже было пора, ибо зло в мире стато непомерно велико. Возьмите, например, мучительную смерть с ее корчами, с ее ужасной агонией, на что эта мучительность ее?! какая ненужная жестокость! А соедините мысленно воедино предсмертные стоны всех умерших людей - их же миллиарды миллиардов - и подумайте, какой из этого одного должен получиться душу раздирающий вопль. Но что значат мучения предсмертной агонии в сравнении с теми мучениями, которые большинство людей испытывает в течение всей своей жизни; подумайте, сколько самоубийц сами добровольно шли навстречу первым, чтобы только уйти от вторых. Соедините же в своем воображении физические и нравственные мучения всех когда-либо существовавших людей воедино, все стоны больных и раненных, все слезы детей, женщин, слабых и обиженных, всю горечь предательства, все унижения, смертельные горести разлуки с умершими, слейте все воедино и прислушайтесь: какой от этого поднимется безмерно ужасный вопль! И я вас спрашиваю: как этот вопль, который должен был бы потрясти мир в своих основах, не донесся до неба, а если донесся, то как он не смутил верховное существо, не смягчил его сердце и не заставил его, наконец, сжалиться над бедными людьми? Подумайте, так ли поступили бы вы, или я, или всякий другой смертный, имеющий жалость в своей груди, если бы, будучи владыкой мира, он услышал этот вопль? Не простили ли бы мы сто раз всякие грехи человеческие, как бы велики они ни были, чтобы только увидеть радость и счастье воцарившимися в мире. Вы скажете, что, быть может, сама природа вещей препятствует воцарению счастья там, где господствует грех, что сама природа вещей требует возмездия. О, если бы я был всемогущим божеством, каким всесокрушающим вихрем налетел бы я на эту природу вещей, смял и уничтожил бы ее, дабы она не препятствовала мне подойти к людям близко, совсем близко, простить им все и, осушив их слезы, прижать их, бедных, измученных, к своей груди: и да будут они затем навеки счастливы!
Ах, мой друг, я скептик, я не верую так безусловно, как вы, и все-таки я глубоко возмущен при мысли, что божество, если оно есть, преследуя какие-то неведомые нам цели, может быть и очень возвышенные, прибегает для достижения их к таким мрачным средствам, к таким невыразимым страданиям, которыми человечество терзалось в течение стольких тысячелетий. Ведь слезы от этих страданий пропитали землю от поверхности до самого ядра ее, и никогда ничем эти слезы не смогут быть оправданы; никогда не окупятся они! Но это еще благо, что я скептик, ибо будь я глубоко верующим, как вы, то предела не было бы моему возмущенному чувству, с безграничным ужасом, с непримиримым негодованием отвернулся бы я от такого жестокосердного божества. О, легче знать, что мир есть не что иное, как слепая, случайная комбинация сил без цели и мысли, легче тогда выносить мысль о страданиях мира, ибо нет тогда виновника им; все эти стоны и слезы, вся эта горечь жизни, все эти корчи смерти внушали бы тогда один только беспомощный ужас. Но если есть творец всего этого - о, тогда к ужасу присоединяется еще безграничное негодование!
Говоря так, Эзрар пришел в сильное волнение и я, желая как- нибудь его успокоить, вздумал привести одно соображение, казавшееся мне совершенно логичным и способным несколько умиротворить его взволнованную душу. Результат, увы! получился однако совершенно противоположный.
- Я понимаю, - сказал я, - что вы, отвыкшие видеть зло и страдание, так возмущаетесь при мысли о нем, я и сам, признаюсь, не совсем это понимаю, но, дорогой Эзрар, вы не подумали об одном: ведь страдание очищает, возвышает дух, и в этом, может быть, его оправдание.
Но Эзрар вскочил как ужаленный при этих словах и, весь дрожа, с бледным, искаженным лицом закричал:
- Молчите! Не смейте так говорить! Я не в состоянии перенести такого возмутительного рассуждения, все нутро мое переворачивается, слыша его. И понимаете ли вы, что вы говорите, как возмутительно жестоки слова ваши? Что бы вы сказали про человека, про отца, который старался бы превратить жизнь своего сына в беспрерывный ряд горестей и печалей, который всю жизнь терзал бы его телесно и душевно, довел бы его до самоубийства - и все под тем предлогом, что это совершенствует его дух? Вы не нашли бы достаточно сильных слов, чтобы заклеймить такого отца: злодей, негодяй, нравственный урод - вот названия, которые еще слишком слабы для такого действительно урода и изувера, для такого нравственно помешанного человека. С чувством непримиримого негодования, с чувством глубочайшего отвращения отвернулись бы вы от такого отца. И вы хотите оправдать страдания, причиняемые отцом небесным своим несчастным беспомощным детям на земле таким рассуждением! Не оправдание его, а страшное обвинение слышится в вашем рассуждении, обвинение в неслыханной жестокости, на какую мы, простые люди, считаем себя неспособными! Одною только любовью, одною ласкою и нежностью, одними только мягкими средствами, исключающими всякое страдание, всякое насилие, считаем мы себя вправе совершенствовать людей, и то, что мы считаем непростительным для себя, мы не можем считать простительным для божества или оправдывающим его. Нет! ему нет оправдания, как не может быть оправдания зла в мире. Цель не оправдывает дурные, жестокие средства. И если ваш отец небесный действительно такое бесчеловечное, жестокое существо, то мы отворачиваемся от него, мы не хотим его и знать, мы отрицаем его! Прочь! Прочь от нас!!
И он опустился в изнеможении, закрыв себе лицо руками, и долго просидел в этой позе.
- К счастью, - прибавил он, - такого жестокого чудовища по-видимому и нет. Было бы слишком ужасно, если бы оно существовало.
Затем он встал и произнес:
- Перестанем говорить об этом - это слишком мучительно для нас обоих, да и бесцельно, ибо, в конце концов, мы ничего обо всем этом не знаем и не можем шать. Мы можем только чувствовать, но чувства эти так преисполнены горечью, что не следует предаваться им бесцельно. Пойдемте лучше ужинать, уже пора.
И мы пошли, печально опустив головы, с тревогой в сердце, и я с грустью подумал: вот, не успел я, человек XIX века, прожить и двух дней в этой новой среде, такой тихой и мирной, как уже дважды возмутил царствующую здесь ясность духа, внеся сюда разлад и треволнение.