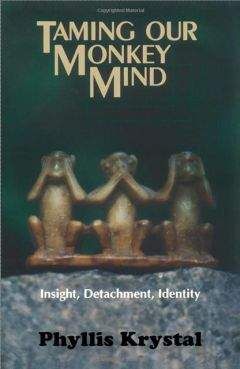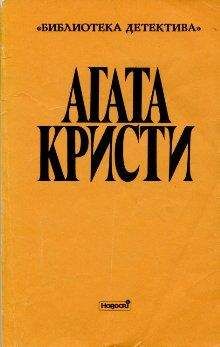Юлия Галанина - Кузина
На карнавале – всё смешано, все свободны, каждый – лишь маска на лице. Ни о чём не думается, ничего не тревожит, круженье карнавала увлекает людей, как проносящиеся рядом потоки Млечного Пути упавшие листья.
Меня, как и всех остальных, носило по замку в огнистом ручье. Натанцевавшись до полного изнеможения, я вырвалась из потока, лёгким листком порхнула в темный безлюдный уголок, тихую заводь, где можно было отдышаться.
Начиналась новая игра – ещё немного танца, и все начнут менять маски и костюмы, и надо будет отыскать старых знакомцев под новым обличьем и постараться, чтобы тебя не обнаружили раньше времени.
Мне нужно было напольное зеркало – и я его нашла в одном из залов, укрытое занавесями, как раз такое, какое нужно. Глядясь в него, одним щелчком поменяла маску, обрамленную яркими перьями, на другую, тёмную, вспыхивающую радужными искрами. Синий цвет наряда стал ярко-алым. Поменялось всё. Кроме меня.
Теперь можно было начинать игру.
Осторожно выглядывая из-за тяжелых портьер, я прикидывала, как бы аккуратно влиться в поток танцующих, потому что сейчас-то как раз и засекают тех, кто пытался незаметно сменить облик.
За спиной кто-то сказал:
– Ага, вот и госпожа Аль-Нилам!
Замаскировалась, называется…
Незнакомец или знакомец, чья роскошная маска представляла шлем в виде головы чёрной пантеры, закрывающий почти полностью и лицо и волосы, а костюм был неразличим за длинным, до пят, плащом без геральдических фигур, поклонился и, улыбаясь, вручил мне гранат.
Ну, раз проиграла, значит, проиграла. Надо всё менять. А пока пришлось с улыбкой принять дар.
В руках пантероголового плод легко распался на две половинки, в которых горели рубиновые зерна.
Одна половинка осталась в моей ладони, вторая – в перчатке незнакомца. Он сделал лишь шаг из зашторенного омута, – и водоворот масок увлёк его, закружил по залу.
Наблюдая за танцующими, я наковыряла пригоршню крупных, готовых лопнуть от терпкого сока, зёрен, собрала их губами с ладони. В гранатовом соке есть своя, особая прелесть, она именно в той терпкой горчинке, в сердцевине каждого зернышка.
Но округлые, мягкие гранатовые шарики, вдруг, словно лезвиями ощетинились, – я просто почувствовала, как впиваются мне в гортань, в нёбо, в язык острейшие иголочки, как раздирают горло, не дают ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни крикнуть.
Я помню, что упала, помню бессильные попытки глотнуть хоть капельку наполненного музыкой воздуха – и всё, точнее ничего. Совсем ничего…
…А потом очнулась, потому что меня покачивало. С разламывающейся от боли головой села. Огляделась.
Сидела я в россыпи цветов, в месте, удобном для обзора, высоко надо всеми. В глазах рябило от пламенеющих грифонов. И вдруг вся толпа, которая была вокруг, с криками ринулась врассыпную, узрев, что я сижу.
Оказалось, что в такой ответственный момент надо лежать неподвижно. Воспитанные дамы в гробу не садятся.
Несшие меня мужчины, не последние, причём, в Орионе, тоже отреагировали нервно и уронили меня вместе с ящиком. Чуть снова не убили. Я сидела в вечноживых цветах и злилась на весь мир.
Одетая в траур Ангоя опомнилась первая, осторожно приблизилась ко мне и ущипнула так, что синяк от щипка не сходил неделю. Потом ущипнула себя. Потом снова меня.
– Нельзя же так! – заревела она, размазывая вуалью слёзы по лицу. – Мы тебя в усыпальницу несём, а ты то мёртвая, то живая. Зачем три дня притворялась?
– Смотреть надо было лучше! – воскликнула я, с трудом выбираясь из гроба и оглядывая себя. Мало того, что хоронить несут, так ещё и надели на меня то самое свадебное платье, шлейф которого я в своё время завязала узлом в знак протеста. Надо было его вообще выкинуть, да жалко: в иных мирах цена этого наряда равна небольшому, но хорошему городу.
– Живого человека хоронят! А не очнись я сейчас? Так бы и накрыли неподъёмной плитой с чистой совестью! И какой дурак на меня ЭТО платье надел?! Нет, я спрашиваю, кто тот негодяй? Я его порву вместе с этим безобразием! Где он?!
Так я и возмущалась посреди опустевшей площади: пыталась прогнать жуть, охватившую меня, когда поняла, что случилось, и откуда я вернулась.
А потом меня ещё месяц держали чуть ли не привязанной к кровати, проверяли на все лады. Не выживают после такой отравы – а я каким-то загадочным образом выжила.
– Удивительно разнообразная у тебя жизнь, – только и заметил Кузен, выслушав рассказ. – Если бы ты не была женщиной, я бы сказал, что без истинной магии здесь не обошлось.
– А на вас яды не действуют? – удивилась я.
– Практически нет.
– Странно, что вы при всех ваших достоинствах на окраинах сидите, а не правите сердцем миров… – пробурчала я. – Кругом неуязвимые.
– Кому-то надо беречь миры, – отрезал Кузен. – А если не мы – то кто? Мне пора. Подумай ещё раз хорошенько – удерживая себя от поиска причины, ты не сохранишь жизнь павших. Если бы у меня был другой способ, я давно бы взломал этот мир и забрал тебя, но отсюда выводит один путь – твой собственный. Ты должна найти ответ на вопрос, почему ты здесь.
– Стой! – испугалась я, что он сейчас замолчит. – Ответь: если бы ты был тогда рядом с плахой, ты смог бы спасти Таку? Смог?
– Нет, – жёстко ответил Кузен. – Спасти можно лишь того, кто сам хочет жить. Таку добровольно подставил шею топору. Даже моя магия была бы здесь бессильна. Кстати, я ведь узнал то, что ты просила. Просто не успел тебе сказать про казнь, ты раньше вспомнила. А остальные живы, – так что ты не вспомнишь их гибели, не бойся. Не сдавайся, ладно?
* * *Когда Кузен умолк, я, почему-то, не заснула, хотя до подъема было ещё время.
Без моей воли само собой вспомнилось, что казнь Таку нас, его друзей, как-то отдалила друг от друга. Получается, дружили с детства, а что у человека в душе, – не знали. Какой-то холодок образовался. И мы держались на расстоянии, каждый в одиночку зализывал рану, нанесённую серебряным топором, обеспечившим Таку последнюю привилегию Орионида.
А потом, как-то вечером, Ангоя собрала всех в Ригеле и предложила поговорить по душам. Просто поговорить.
Собрались.
В уютном угловом кабинете пылал камин. Перед ним полукругом стояли высокие кресла. Мы сидели вчетвером, смотрели на огонь и молчали.
Ждали, кто первый начнёт.
Берёзовые поленья понемногу обугливались. В Тавлее высший шик пользоваться настоящим. Настоящим живым огнём, настоящими природными дровами, иметь настоящие длинные волосы и настоящие тугие мускулы.
У самого огня сидела изящная, как статуэтка Ангоя, куталась в длинную, до пят, белоснежную шаль и задумчиво поправляла дрова в камине. Поблёскивали на шали золотые стрекозы, сияли на их спинках сердолики, опалы и турмалины.

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/uploads/posts/books/271641/271641.jpg)