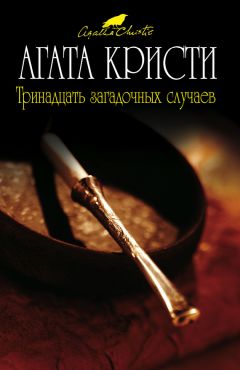Нил Гейман - Океан в конце дороги
Когда я открыл глаза, добытчика опалов уже не было.
Небо затягивалось серым, мир в сумерках становился плоским и терял резкость. Если тени и были все еще там, я их уже различить не мог; точнее, вокруг стеной стояли одни только тени.
Из дома, выкрикивая мое имя, выскочила сестра. Не дойдя до меня, она остановилась и спросила: «Что ты там делаешь?»
«Ничего».
«Папа звонит. Он зовет тебя к телефону».
«Нет. Не зовет».
«Что?»
«Он не зовет меня к телефону».
«Если ты сейчас же не пойдешь, тебе не поздоровится».
Я не знал, моя это сестра или нет, но я был в кругу, а она за его границей.
Я жалел, что не взял с собой книгу, пусть уже почти стемнело и читать было бы трудно. Я мысленно вернулся к «слезному» стихотворению мыши.
И не смей отпираться,
мы должны расквитаться,
потому что все утро
я без дела сижу…
«А где Урсула? — спросила сестра. — Она поднялась к себе в комнату, но там ее нет. И на кухне нет, и в туалете. Я хочу чая. Я есть хочу».
«Можешь сама себе что-нибудь приготовить, — ответил я ей. — Ты уже не ребенок».
«Где Урсула?»
Ее разодрали на клочки стервятники, монстры-пришельцы, и, если уж честно, я думаю, что ты одна из них, или они тобой управляют.
«Не знаю».
«Когда мама с папой вернутся, я им скажу, что ты весь день плохо со мной обращался. Они тебе покажут». Я все пытался понять, моя это сестра или нет. Судя по словам, точно была она. Но в кольцо, в круг, где трава была зеленее, она не ступила ни шагу. Показав мне язык, она помчалась обратно к дому.
И на это нахалу
мышка так отвечала:
«Без суда и без следствия,
сударь, дел не ведут…»
Плотной тусклой массой навалился сумрак, весь выцветший и тревожный. Вокруг разносилось зудение комаров, один за другим они садились на мои щеки и руки. Я был рад, что на мне необычная, старомодная одежда кузена Лэтти Хэмпсток — с ней открытых мест на теле осталось меньше. Когда комары садились, я тут же отгонял их шлепками, и они разлетались. Один не улетел, присосавшись к запястью с внутренней стороны, он лопнул от моего удара, и кровавая слеза скатилась по руке.
Надо мной кружились летучие мыши. Обычно они мне нравились, но в эту ночь их было очень уж много, они напоминали мне голодных птиц и заставляли дрожать от страха.
Незаметно сумерки перешли в ночь, а я все сидел в дальнем конце сада и уже не мог различить границ круга. В доме зажегся свет, дружелюбный электрический свет.
Темнота меня уже не пугала. И обычные вещи тоже. Просто я не хотел больше сидеть там и ждать в темноте подругу, которая исчезла, и не понятно, когда вернется.
…Цап-царап ей ответствует. —
Присужу тебя к смерти я,
тут тебе и капут.
Но я сидел и ждал. Я видел, как Урсулу Монктон разорвали на клочки и сожрали могильщики, явившиеся из мира, недоступного моему пониманию. Я был уверен — выйди я из круга, и со мной произойдет то же самое.
Я перешел от Льюиса Кэрролла к Гилберту и Салливану.
И лежишь ты без сна, в голове пелена,
сердце полнится тяжкой тоскою,
ты давай без прикрас, заведи свой рассказ,
коли ночью тебе нет покою…[3]
Я любил, как эти слова звучат, даже если и не совсем понимал, что они означают.
Захотелось пописать. Я повернулся спиной к дому и чуть-чуть отошел от дерева, боясь сделать лишний шаг и оказаться за кругом. Я помочился в темноту. И только закончил, как меня ослепил свет фонаря, и голос отца спросил: «Какого черта ты здесь делаешь?»
«Я… я просто сижу тут», — ответил я.
«Да. Твоя сестра мне сказала. Ладно, пойдем домой. Ужин на столе».
Я не двинулся с места. «Нет», — сказал я и замотал головой.
«Ну, не глупи».
«Я и не глуплю. Я остаюсь здесь».
«Ну, давай. — И, подбадривая, добавил: — Пойдем, Красавчик Джордж». Он так звал меня, когда я был совсем ребенком. У него даже имелась песенка с этим именем — он напевал ее, качая меня на коленях. Это была лучшая песня в мире.
Я молчал.
«Я тебя домой не понесу, — сказал отец. В голосе его послышался металл. Ты уже большой».
Да уж, подумал я. А еще, чтобы схватить меня, тебе придется пройти через кольцо фей.
Правда, кольцо фей казалось теперь глупостью. Это был мой отец, а не какая-то восковая фигура, сделанная голодными птицами, чтобы меня выманить. Он вернулся с работы. Как раз подошло время.
Я сказал: «Урсула Монктон ушла. Навсегда».
«Что ты ей сделал? — спросил он сердито. — Гадость какую-нибудь? Нагрубил?»
«Нет».
Он посветил фонарем мне в лицо. Из-за света я почти не видел его лица. Но было ясно, что он с трудом сдерживает себя. Он спросил: «Чего ты наговорил ей?»
«Ничего я ей не говорил. Она просто ушла».
Это была правда, ну или почти правда.
«Возвращайся в дом, сейчас же».
«Ну пожалуйста, папочка, мне нужно остаться здесь».
«Сию же минуту иди в дом!» — заорал отец во весь голос, и я не совладал с собой: нижняя губа задрожала, из носа потекло, к горлу подступили слезы. Они застилали глаза, жгли и не капали, и я смаргивал их.
Я не знал, со своим ли отцом говорю.
Я сказал: «Мне не нравится, когда ты кричишь на меня».
«А мне не нравится, когда ты ведешь себя, как звереныш!» — заорал он, и я заплакал, и слезы ручьем побежали по моему лицу, мне захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда.
За последние несколько часов я видел вещи и похуже. Я вдруг понял, что мне наплевать. Я поднял глаза на темную фигуру, держащую фонарь, и сказал: «Ты чувствуешь себя большим и сильным, когда доводишь ребенка до слез?», и тут же горько пожалел об этом.
Я отраженном свете фонаря мне было видно, как его лицо осунулось, искривилось. Собираясь что-то сказать, он открыл рот и снова его закрыл. Я не мог вспомнить, чтобы отец вообще терял дар речи, ни до этого, ни после. Только тогда. Я похолодел. И подумал, я скоро умру здесь. Неужели это мое прощальное слово?
Но свет фонаря уже удалялся. Отец бросил только: «Мы будем в доме. Твой ужин я поставлю в духовку».
Я следил за огоньком: вот он движется по лужайке, мимо розовых кустов, к дому и гаснет, полностью скрываясь из виду. Стукнула боковая дверь.
А когда ты уснешь, как глоток отхлебнешь,
голове и глазам отдых давши,
дрема встретит кошмар, раздувая пожар,
и не спать лучше было б, страдавши…
Кто-то засмеялся. Я перестал петь и оглянулся — вокруг никого.