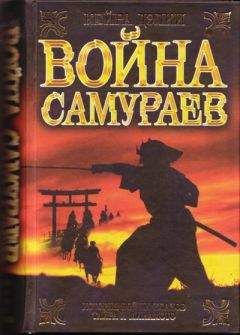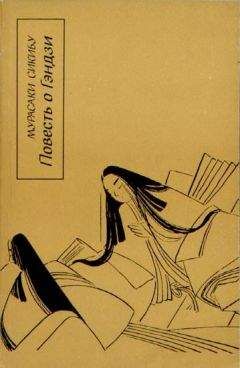Чигиринская Ольга - Дело земли
— В монастыре, — странное дело, этот ответ пришел к Райко мгновенно, сам собой. — В одном из монастырей под столицей.
— У господина Кудзё, — задумчиво, как бы сам себе, сказал Сэймэй, — одиннадцать сыновей. Между старшими сейчас идет борьба за власть, младшие же состоят в партии того или другого. Господин Тадагими был дружен с господином Канэиэ — и сегодняшнее событие меня, признаться, удивило.
— Я надеюсь, господин Тадагими пришлет за своими людьми, — признался Райко, — и мы сможем поговорить.
— За них еще мстить будут, наверное, — сочувственно щелкнул языком Хираи — и приказал ввести конюшего.
Допрос происходил там же, где три дня назад допрашивали полудемона. На сей раз яму с углями для пытки огнем не успели приготовить — но Райко полагал, что для конюшего это будет и не нужно. Он еще ночью показал себя человеком не храброго десятка.
Тут Райко ошибся. Конюший посинел, как каппа после дождя, и даже держать его было не нужно — он и губами-то двигал еле-еле. А вот говорить отказался, напрочь. И видно было — просто так не скажет, хотя очень боится.
Райко приказал подать палок, но Сэймэй попросил его обождать.
— По-моему, толку из этого не будет, — сказал он. — Если человек решил молчать, так он скорей умрет, чем заговорит. Так что мы поступим иначе. Подайте-ка мне кисть и тушечницу.
Требуемое подали — и Сэймэй, достав из-за пазухи лист бумаги для насущных надобностей, оторвал узкую полосу и написал знак «язык».
— Сделаем проще, — сказал он, помахивая полоской, чтобы тушь просохла поскорее, — обезглавим его, а после я положу это заклинание ему в рот. Его мертвая голова все нам расскажет, а его господам совершенно незачем знать, живой или мертвый он их выдал.
— Нет… — захрипел конюший. — Не делайте этого.
— А почему, — поинтересовался Сэймэй, — я не должен этого делать?
— Не надо, — конюший всхлипнул и забился. — Вы лучше пытайте меня. Я слабый человек, я не смогу молчать. Пытайте меня! Избейте меня, сломайте мне все кости! Вырвите мне глаза, жгите меня на углях! Я скажу вам все, но, может быть, ее пощадят!
— Дочь? — спросил Сэймэй. — Где она? Говорили?
Райко молчал. Сэймэй, кажется, что-то понял раньше него — пусть он спрашивает.
— Я… — конюший, дрожа, глотал слезы, — я не знаю. Они… называли одно место, я слышал случайно, но где это — я не знаю…
— Говори.
— Гора Оэ. Монах-пропойца говорил о горе Оэ.
Райко прикрыл глаза. Гора Оэ — в одном конном переходе от Столицы. Это уже не Масакадо. Это уже песни царства Чу с четырех сторон…[64]
— Что ты знаешь о Монахе-пропойце? — спросил Райко.
— Он — вечно пьяный скот и дурак. Ему обещают бессмертие — а он верит…
— Он в городе сейчас?
— Нет. Сейчас — уже нет. Его отослали вчера.
— Лжешь. Вчера все городские ворота уже стерегли. Такой огромный человек не прошел бы без моего ведома.
— Он и не прошел! — конюший расхохотался. — Его пронесли! Это я, глупец, научил их, как… Обвязали со всех сторон соломой и пронесли на носилках в процессии, как Огненного Парня!
Райко прикусил губу. Чучела, которых называли Хиотоко, «Огненный парень», плели из рисовой соломы и сжигали на рисовых полях как раз сейчас, в последние дни новогодних празднеств. Райко чувствовал себя дураком. Пока он раскланивался с вельможами — злодеи опять опередили его на десять шагов.
— Господин тюнагон, несомненно, оценит твою смекалку, — сказал он как можно холоднее.
— Да плевал я на господина тюнагона, — сказал конюший — и повалился набок, а глаза его закатились.
— Им управляют? — вскинулся Райко.
Очень уж похоже было на то, что вышло с давешним кровопийцей, когда он пытался сказать лишнее.
— Да нет, — поморщился Сэймэй, — просто он человек полнокровный, напряжение чувств ему вредно.
Гадатель встал, зачерпнул ковшом воды из кадки в углу веранды — и вылил медленной струйкой конюшему на висок. Тот заморгал, задышал часто — а потом с помощью стражника сел и вроде бы даже успокоился.
— Ты умрешь, — сказал Райко. — Но если ты все расскажешь мне, я поеду на гору Оэ и постараюсь спасти твою дочь, если это еще возможно. Хотя бы ее спасение стоило мне жизни. Я клянусь тебе в этом, слышишь? Но если ты не расскажешь нам… Что ж, твоя дочь не хуже и не лучше тех девушек, которые погибли по твоей вине. А ты — ты хуже тех отцов, которым я приносил горестную весть. Говори.
— Но… но вы же знаете, от кого я шел. Вам запретят, она умрет.
— Я знаю, от кого ты шел. Я не стану спрашивать позволения. У Тайра Садамори были полгода на уговоры, у меня их нет.
Конюший снова заплакал — но уже не навзрыд, как в прошлый раз. Он плакал — и говорил ровным, тихим голосом, словно бы слезы принадлежали кому-то другому.
Началось все около года назад, как раз когда изволил сокрыть свой лик государь Мураками. Свадьбу дочери конюшего и смотрителя соколиной охоты, назначенную на благоприятный день шестого месяца, из-за траура пришлось отложить. А несколько месяцев спустя помолвка расстроилась из-за того, что невеста оказалась беременной. Виновника искать не пришлось — господин тюнагон подарил своему конюшему несколько штук дорогого полотна, сколько-то искусно сделанной утвари — и сам все объяснил. «Родится девочка — возьму к себе в дочери, — сказал он. — Родится мальчик — и его не оставлю заботой».
Ребеночек, однако, прежде срока родился мертвеньким, и к прислужнице господин Канэиэ охладел. А конюший расстроился и стал искать способов вернуться во дворец Хорикава-ин, где он служил раньше, до того как братья разъехались.
И попал прямо в змеиное кубло.
Потому что старшие братья невесть с чего воспылали к младшему ненавистью — и твердо решили сжить его со свету. Конюший не видел ничего дурного в том, чтобы приложить руку к отправке господина тюнагона в ссылку — по правде сказать, он в том видел много хорошего и был даже согласен рисковать. Он любил дочь, а ее очень уж крепко обидели. Но с нечистью связываться не собирался… только кто ж его спрашивал?
— А откуда взялась нечисть? — спросил Сэймэй.
— А как ей и положено — из гроба. Я сам не видел, как дело было, только слышал от других, что господин Великий Министр изволили прихворнуть — и уже совсем было померли, но перед смертью сказали, чтобы не звали бонз, а по старинке совершили обряд оплакивания. Ну, как водится, плакальщики рыдали и три дня уговаривали его вернуться… А он возьми да и вернись.
— А кто та женщина, с которой ты передал отравленную еду для стражников? — спросил Райко.
— Богиня, — Конюший сказал это и обвел всех полными ужаса глазами. — То ли сама Идзанами, то ли одна из ее служанок. Ее все боятся. Даже Сютэндодзи. Даже сам Великий министр Корэмаса!