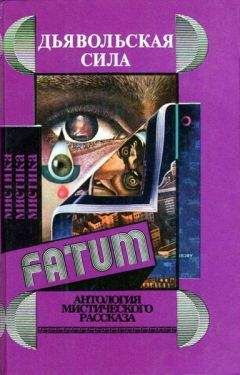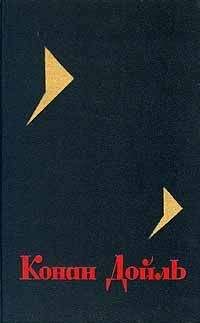Лилия Баимбетова - Перемирие
— Кто она? — спросил вдруг дарсай.
— Не знаю…. По-моему, я начинаю выступать в роли почтальона.
— В роли свахи, — усмехнулся дарсай мне в спину, — Это письмо, наверняка, любовное послание.
— Что ты знаешь о любовных посланиях? — пробормотала я почти про себя, но слух у него был хороший.
— Столько же, сколько и ты, я думаю, — промурлыкал его голос у меня за спиной.
— Ха. Как смешно.
Ворон догнал меня и, просунув руку мне под плащ, обнял меня за талию. Сильная была эта рука, и объятие ее было таково, что я просто таяла, как воск на жарком солнце.
— Увидят, пусти меня…
— Drado estreto (пусть видят), — отозвался он.
— Это тебе пусть, — пробормотала я, — Хотя, действительно, пусть…
На площадке третьего этажа мы остановились.
— Пойдешь завтракать? — спросила я, поворачиваясь к нему.
Он присел на перила, скинул капюшон и снял шлем. Надев шлем на колено, он провел обеими руками по растрепанным волосам. Что-то ужасно юное было в нем, что-то совсем мальчишеское; я смотрела на него, и губы мои складывались в невольную улыбку.
— Что ты спросила?
— Ты завтракать пойдешь? — повторила я, улыбаясь, но в улыбке моей появился легкий привкус горечи — я знала, что он скажет.
Он помотал головой — нет. Так я и знала, ей-богу. Вряд ли он много ест, он уже и не испытывает потребности в еде. Это на вид он был как мальчишка в тот миг, а на самом-то деле он был уже одной ногой в мирах духа. Далеко зашедшие по этому пути теряют интерес ко всем проявлениям физического мира, или, если говорить словами мудрецов, души, жаждущие свободы или освобожденные, не любят ничего мирского и не ищут чувственных удовольствий.
Его возраст…. О, его возраст, он мучил меня, это правда. Меня мучило даже не то, что он должен был умереть раньше меня, а само сознание его физической слабости, беззащитности тела, которое дух бросает на произвол судьбы.
— Что-то ты притихла, — сказал он, улыбаясь открытой мальчишеской улыбкой.
Я смотрела на эту улыбку и молчала. Иногда… иногда любовь доходит почти до физической боли; иногда любовь причиняет такую боль, что хочется плакать. Отчего? Я не знаю, знаю только, что это так.
— Куда ты пойдешь? — сказала я, чтобы что-то сказать, не молчать же перед ним, — К себе?
— Да, — сказал он, — Может быть, ты зайдешь потом? Я хочу знать, чем кончиться эта история с любовными посланиями. Зайдешь?
Я слегка улыбнулась.
— Может быть.
— Так зайдешь?
— Ладно.
Он соскочил с перил, держа шлем в руке. Я шагнула к нему, подняла руки ему на плечи, привстала на цыпочки и коснулась губами его сухих губ. Совсем слегка коснулась — что ему наши дурацкие поцелуи, а мне так хотелось его поцеловать, хоть вот так, чуть-чуть.
На этом мы и разошлись.
Любовь. Странное это слово, и много странного таится в его смысле, много необъяснимого. Любовь. Я не романтична, в сущности, я не понимаю, что романтичного может быть в том, что причиняет такую боль. Боль груба, и романтики в ней нет ни на грош… Любовь. Я шла по коридору и размышляла об этих людях, которые мучили здесь друг друга — из-за любви. Озрика, несомненно, была благородного рода, и породниться с ней вряд ли зазорно было для Эресундов. Уж дочь благородного семейства я как-нибудь смогу отличить от крестьянки. Так из-за чего все неприятности и скандалы?.. И еще, почти не осознавая этого, я думала — о себе, о далеких днях и далеких землях, где лес растет лишь на берегах рек, где травы вздымаются по пояс, где пахнет пылью и солнцем, где зимой лишь желтеет листва, и птиц становится больше, потому что они сбегают из холодных краев на юг, поближе к теплу. Как любит шестнадцатилетняя девочка — глядя снизу вверх на любимого, когда он для нее весь мир и даже больше, когда она не может понять его недостатки, увидеть его ошибки, когда она не может вести себя с ним на равных. Как это было давно, но это — было. Такая любовь — была. И только когда я сама заняла его место во главе отряда, я поняла, как часто он ошибался — и в жизни, и в любви. Но все же его место — в моем сердце. И пока сердце это не умолкнет, он будет там… Любовь. Любимая птица — ворон. Оттого, что созвучен он с названием тех, кто на собственном языке зовет себя Karge. Ворон мой — говорю я тихо. Ворон мой. Н-да. О любви можно говорить, но только когда она кончилась уже, можно говорить, вспоминая. Но невозможно говорить о любви в настоящем времени, ибо слов не находится. Так я думала, когда шла по коридору третьего этажа Ласточкиной крепости, словно не было у меня больше тем для размышлений.
Комната Марла ни звуком не отозвалась на мой настойчивый стук. Было уже время завтрака, коридоры были пусты. Я пнула напоследок дверь и направилась в столовую. Я не совсем представляла себе, как буду передавать это дурацкое письмо при Ольсе и всех прочих представителях клана Эресундов.
Я открыла дверь и вышла на балкон. Против моих ожиданий завтракать еще не начинали, в комнате почти никого не было, только Ольга и Гельда шептались о чем-то в конце стола, да возле лестницы стояли Ольса и Марл. Все четверо были уже в трауре, хотя Лейла и не считалась официально членом семьи.
В черном Ольса выглядела как-то странно. Непривычно. На ней было платье из черного бархата, самого простого покроя, с прямой юбкой и с рукавами до локтя. Честно говоря, черное ей невероятно шло, Ольса от природы была бледна, и белоснежная ее кожа словно светилась на фоне черного бархата. Марл был выше ее, правда, не намного. Это был парень двадцати двух лет, широкоплечий и узкобедрый, с гибкой стройной фигурой, со смазливым лицом. Льняные вьющиеся волосы распадались на две стороны округлого лица с загорелыми щеками, небольшим носом и голубыми глазами. Далеко не урод, но, по мне, это была какая-то кукольная красота — как целлулоидный пупс. Пухлые губы, ясные голубые глаза, льняная челка. Мечта любой девчонки, но только пока ей не исполниться тринадцать. Потом мы все начинаем мечтать о более качественных экземплярах.
Я и видела-то его до этого раза два, не больше, но зато успела выслушать о нем немало сплетен, и уже составила о нем свое — не слишком лестное — мнение. Хотя, может, я была несправедлива.
Ведь я принадлежала к иному миру, так непохожему на этот, где правят женщины. Стереотипы мужского мира так же владели мной, как и любым южанином-мужчиной, хоть мне и неприятно было признавать это.
Да и выросла я в таких вольных условиях, что проблема Марла, вынужденного подчиняться своей сестре, казалась мне довольно глупой. Мне-то всегда казалось, что подчиняются другим только те люди, которым не хватает сил самим определять свою жизнь.