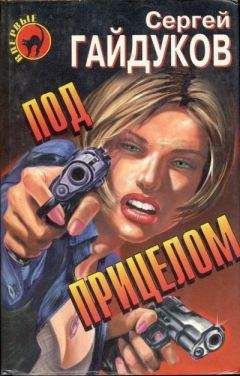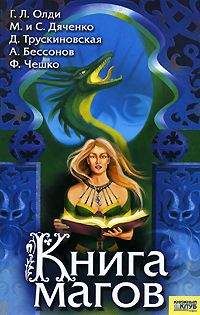Сергей Никшич - Люди из пригорода
Итак, кончилось все не бессмертием, а страшнейшей головной болью, да такой, что все вокруг него вдруг потемнело, словно песчаная буря налетела на Горенку из далекой Сахары. Голова посмотрел на часы – ровно полдень, и хотя зимой в Горенке смеркалось рано, но до темноты оставалось еще несколько часов. «Неужели нечистая сила?» – тревожно подумал Голова и для храбрости крикнул в сторону приемной: «Маринка! Чайку, да погорячее!». Надо сказать, что после того случая, когда призраки крестоносцев ворвались в его дом, Голова стал суеверным до крайности, непрерывно крестился и даже меньше стал красть. «Только бы никто больше не приходил, только бы никто…» – думал Голова и меланхолично рассматривал пушистые снежинки, которые сыпались на Горенку, как из рога изобилия, угрожая засыпать ее к утру по самые крыши. Но тут дверь со скрипом раскрылась – средства на ее смазку предусмотрены не были – и в сельсовет жизнерадостно ворвался Прыгучий Павлик. Увидев его, Маринка и Тоскливец сразу забились по углам, словно к ним пожаловал не плюгавый, загорелый, как цыган, шатен, а торжествующая чума. Впрочем, их можно было понять – репутация у Павлика была, прямо скажем, никакая. Он нигде не работал, разве что только числился в нескольких государственных учреждениях, в которых его принимали на работу только для того, чтобы уволить при первом же сокращении. И поэтому половина его жизненной энергии уходила на то, чтобы заводить все новые и новые трудовые книжки и нужные знакомства, чтобы оформляться на мизерные ставки, из которых он к тому же вынужден был выплачивать кому нужно известную мзду. Вторая половина его жизни припадала на воровство. Врожденная клептомания и необъяснимо пылкая любовь к самому себе сделали свое дело – Павлик крал все, что попадалось ему под руку. Поскольку числился он в государственных ведомствах и одевался солидно, то заподозрить этого солидного человечка в том, что он только что украл вилку или носовой платок, было нелегко. А когда его ловили за руку, он сразу же начинал хлопать глазами, как сова, которую вытащили на свет, и божиться, что пострадал из-за близорукости (хотя на самом деле зрение у него было, как у орла, и очков он никогда не носил) и собственной скромности, и нес при этом такую околесицу, что слушать его не было никакой возможности. В большинстве случаев его просто выталкивали взашей. В селе люди предпочитали с ним не здороваться, а в корчму пускали только тогда, когда он заранее оплачивал рюмку известного напитка с неизменными двумя кусочками зажаристой домашней колбаски. Одним словом, личность была такая темная, что даже Голова старался держаться от него подальше. Но сейчас, когда его застали «при исполнении», деваться Голове было некуда и он с тоской подумывал уже о том, какую порцию бреда, божбы и чепухи ему придется сейчас выслушать.
Павлик, однако же, никогда не замечал, что люди его сторонятся, и даже, напротив, считал себя душой общества, потому что еще в школе выучил несколько тошнотворных анекдотов и мог с важным видом и со знанием дела вставить в разговоре с базарной торговкой какое-нибудь новомодное словцо типа «веб-сайт».
– Привет, Голова, – развязно поздоровался он, словно был Голове ровня или дружок.
– Давай, покороче, – хмуро ответствовал Голова, на которого при виде Павлика мигрень, накликанная Дваждырожденным, сделала второй заход – на Голову опустились сумерки, виски сжал омерзительный обруч, а спасительный горячий чай с таблеткой пятирчатки превратился в недосягаемую мечту, поскольку Маринка была уверена, что Павлик наводит на нее порчу, и поэтому нельзя было надеяться на то, что она принесет чай, пока этот крохобор не уберется восвояси.
– Да вот на ужин хотел вас пригласить, – умильно улыбнулся Павлик, – тесть копченого поросенка прислал и еще кое-чего, да и половина постаралась по части маринадов…
Голова, надо сказать, поросят любил как раз копченых, да и от остренького мигрень могла пройти, и поэтому предложение Павлика пришлось как раз кстати.
– Да и на крестничка посмотрите, оказия будет, – блудливым соловьем продолжал заливаться Павлик.
Голова был крестным почти у всех сельских детишек, однако припомнить, что он кум Павлику, никак не мог.
Сердце, правда, вещевало Голове, что во всем этом скрыт какой-то подвох, но какой именно, он разобрать не мог, и к тому же разбушевавшаяся мигрень притупляла его обычную бдительность. И поэтому он на радость Маринке и Тоскливцу позволил Павлику себя увести, хотя на душе у него и скребли кошки, а лицо само по себе стало вдруг выражать нечто вроде великомученичества да причем так убедительно, что Маринке на какое-то мгновение даже стало совестно – храбрый Голова отводит от нее с Тоскливцем беду и принимает удар на себя. Впрочем, она тут же вспомнила, что удар имеет вид копченого поросенка, и принялась тут же жалеть самое себя – уже под тридцать, а она все продолжает прозябать в селухе, и, быть может, зря она тогда не поддалась на уговоры того пронырливого ухажера, который доказывал ей, что работает режиссером, и для убедительности притаскивал видеокассеты со всякой похабщиной, чтобы ее, Маринку, раздраконить…
Ее минорное настроение настолько овладело ею, что она отмахнулась от Тоскливца, как от надоедливой мухи, когда он, как только за Головой захлопнулась дверь, как всегда, почти бесшумно подполз к ней со всякими шалостями. Тоскливец подумал было, что она просто кокетничает, но тут на его беду в сельсовет, невзирая на предупреждение о работающей комиссии, которое он уже предусмотрительно вывесил, заглянул Дваждырожденный. Увидев Тоскливца возле Маринки, Дваждырожденный оглушительно провещал:
– Спасется лишь победивший похоть!
Дверь со скрипом захлопнулась, и Маринка, окончательно отстранив от себя Тоскливца, принялась надевать дубленку. Тоскливец, выдававший себя за человека деликатного, настаивать не стал, а помчался прожогом к себе домой в надежде, что к нему наконец заглянет на огонек окончательно помолодевшая Тапочка. Он уже три месяца после работы отлеживался в постели и копил для нее, несравненной, силы и комплименты, и хотя она не спешила навестить его и даже с трудом узнавала на улице, когда он по-подхалимски перед ней раскланивался, как почуявший весеннее солнышко павлин, он все же не оставлял надежд на свое счастливое будущее.
В этот вечер его напряженное ожидание увенчалось успехом, но совсем не тем, который он предвкушал. Кто-то громко постучал в дверь, и когда Тоскливец как человек аккуратный и предусмотрительный посмотрел в глазок, то увидел перед собой, как всегда, оскаленную от бешенства пасть своей подруги жизни. Ошарашенный Тоскливец так и сел на холодный как лед линолеум у двери и несколько минут не мог себя заставить протянуть руку к двери. Но стук в дверь не прекращался и, более того, становился все более грозным, и до Тоскливца наконец дошло, что он был замечен, и ему пришлось преодолеть силу гравитации, оторваться от пола и дрожащими, как у смертника, поднимающегося на эшафот, ногами подойти к двери. Впрочем, он тут же сделал вид, что бесконечно рад и бросился открывать дверь своей ненаглядной половине. Но та шипящей от избытка электричества молнией, в потертом кожаном пальто и с такой же кожаной сумкой в руках ринулась мимо него во вторую комнату, а затем принялась обшаривать шкафы и забитые всякой гадостью сундуки. И только когда она убедилась, что ее супруг действительно один, она несколько расслабилась, продрогшая ее физиономия оскалилась в подобие той улыбки, которая возникает на морде у только что загрызшей дичь львицы, и сообщила опешившему от нечаянной радости Тоскливцу, что решила облагодетельствовать его своим присутствием.