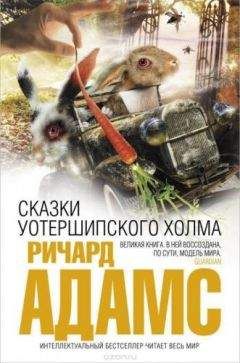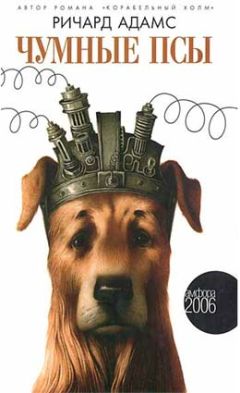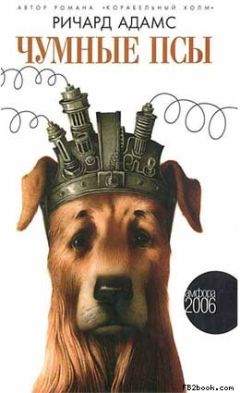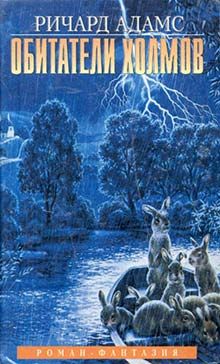Ричард Адамс - Бездомные псы
— Ты что, хочешь остаться здесь, с нами? Ты это хочешь сказать? — спросил Шустрик, вновь, как и ночью, ощутив прилив таинственного и волнующего родства с этим хитрым и вкрадчивым животным, каждое слово и движение которого, казалось, было отдельным звеном единой невидимой цепи, которую оно ковало с какой-то своей целью.
— Оно ж вам не в помеху. Разве мяска когда перехватить, — отозвался лис. Он поднялся, скользнул к выходу, выглянул наружу в моросящий дождь и вернулся. — Мы, лисы, завсегда на бегу, до темноты. Темнота — хорошее дело, тогда поди-ка меня поймай!
— Значит, вот что ты предлагаешь. Ты будешь делить с нами добычу, а взамен научишь нас, как выжить тут и как не попасться людям на глаза, и уж тем более в руки.
— Угым. Теперь умом говоришь. А то и глазом не мигнешь, как попадешь в темноту. Напхает тебе фермер шкуру свинцом, тут тебе темнота и будет.
Лис перевернулся на спину, подбросил в воздух обглоданную кость, поймал ее и бросил в сторону Шустрика, который неловко попытался поймать ее, но чуть-чуть промахнулся. Досадуя, Шустрик прыгнул за упавшей костью, подобрал ее и стал озираться в поисках лиса.
— Тут я, сзади! — Лис тенью проскользнул мимо и теперь неслышно крался по щебню у него за спиной. — Холмы — чтоб укрыться, кусты — хорониться, про это вам скажет любая лисица!
— Как тебя зовут? — спросил Шустрик, ловя себя на мысли, что лис сейчас будто завис на камнях, как зависают канюки в восходящих потоках воздуха над холмом.
Впервые лис, похоже, замешкался с ответом.
— Как твое имя? — повторил вопрос Шустрик. — Как прикажешь тебя звать?
— Ый, как сказать, как сказать, — произнес лис неуверенно, как говорят, когда не желают сознаться, что не понимают вопроса. — Оно, вы ребята правильные. Башковитые, верно дело.
Наступила пауза.
— У него нет имени, — сказал вдруг Раф. — Так же, как и у мышки.
— Но как же он…
— Имя — штука опасная. За него тебя могут как-нибудь и прихватить. Он не может позволить себе такую роскошь, как имя, — так мне кажется. Нет у него никакого имени. Дикий он.
И в это мгновение трескучее пламя одиночества и заброшенности полыхнуло в терновом кустарнике, разросшемся в мозгу у Шустрика. Ведь он тоже мог никогда не знать ласки. Тоже мог потерять имя, не имея ни прошлого, ни будущего, не имея ни сожалений, ни памяти, ни утрат, зная не страх, но лишь осторожность, не голод, но аппетит, не душевную, но телесную боль. Каждая клеточка его существа жила настоящим, одним мгновением, как муха, которую хватают зубами летним полднем или промахиваются. Шустрик видел себя храбрым и сильным, живущим полной жизнью, не нуждающимся ни в чем, подчиняющимся лишь хитрости и инстинктам, ползущим через папоротник за добычей, скрывающимся от преследователей, словно тень, спящим в тайном логове, рискующим снова и снова, покуда в конце концов не потерпит поражение, — и тогда уходящим с мрачной ухмылкой, давая дорогу другому хитрецу, такому же безымянному, как и он.
— Оставайся! — крикнул он и запрыгал перед Рафом, словно щенок. — Пусть остается! Мы дикие животные! Дикие-предикие!
В искреннем восторге Шустрик повалился на спину, скребя спиной по щебенке, и лапой принялся сдирать с головы нависающую над глазом хирургическую накладку.
— Все это крайне печально, — проговорил доктор Бойкот, глядя на мистера Пауэлла поверх очков. — А кроме того, из вашего рассказа я никак не могу понять, как это все-таки могло случиться.
Мистер Пауэлл помялся.
— Я, разумеется, ни в чем не хочу обвинить Тайсона, — начал он. — В целом он добросовестный работник. Но, насколько я понимаю, в пятницу вечером он не заметил, что в клетке восемь-один-пять сетка непрочно прикреплена к полу, и ночью восемь-один-пять сумел подлезть под нее и пробраться в клетку к номеру семь-три-два.
Он замолчал, давая понять, что закончил. Однако доктор Бойкот продолжал глядеть на него так, будто ждал продолжения, и мистер Пауэлл, помолчав, добавил:
— Ну, а на клетке семь-три-два сломалась пружина задвижки, и оба выбрались наружу.
— Но если бы дверца была как следует захлопнута, она бы не открылась даже при сломанной задвижке, верно? Она ведь сама по себе не открывается.
Мистер Пауэлл ощутил смятение и неловкость, какие доводится испытывать молодым офицерам, которые из робости, неопытности и неуместного уважения стесняются задать старшему по годам и плохо воспитанному подчиненному неприятный вопрос, а потом сами оказываются вынуждены отвечать на тот же вопрос перед старшим по званию.
— Мне это, в общем, тоже пришло в голову. Но пружина действительно сломана, Тайсон мне сам показывал.
— А вы уверены, что он не сломал пружину нарочно?
— Не вижу, зачем это могло ему понадобиться, шеф.
— А затем, что, придя в субботу, он понял, что накануне не закрыл дверцу как следует, — парировал доктор Бойкот, откровенно демонстрируя подчиненному свое неудовольствие тем, что тот сам не додумался до такой простой вещи.
— Этого, конечно, нельзя исключить, — согласился мистер Пауэлл. — Но ведь теперь он все равно ни за что не признается, правда?
Этот ответ, по его мнению, закрывал путь к дальнейшему обсуждению вопроса.
— Разве вы его об этом не спросили? — Доктор Бойкот вернулся на тот же путь, ловко вынырнув из кустов.
— Ну, в общем-то, не впрямую…
— То есть вы хотите сказать, что нет.
Доктор Бойкот еще раз взглянул на своего сотрудника поверх очков. У мистера Пауэлла мелькнула мысль, что хорошо было бы, как в шахматах, попросту признать свое поражение, и тогда все ошибки, включая и самые глупые, которые привели к этому поражению, стали бы лишь незначащими эпизодами доигранной партии.
— Ну ладно, — проговорил после продолжительного молчания доктор Бойкот с видом долготерпеливого страдальца, который вынужден расхлебывать кашу, заваренную незадачливым сотрудником. — Допустим, обе собаки сбежали из клетки семь-три-два. Что же произошло потом?
— Судя по всему, они пробежали через весь блок, — в отделе беременности опрокинут ящик с мышами…
— Полагаю, вы поставили в известность Уолтера? — поинтересовался доктор Бойкот с таким видом, будто его уже невозможно удивить никакими проявлениями глупости.
— Разумеется, первым делом, — ответил мистер Пауэлл, хватаясь за возможность вернуться к бесстрастно-деловому тону и делая вид, что его сообразительность и компетентность ни на миг не ставились под сомнение.
— Что ж, я рад это слышать, — заметил доктор Бойкот, искусно, как художник-импрессионист, обозначая одним мазком целый план не требующих прорисовки вещей, которые он отнюдь не рад был услышать. — Так как же они выбрались из блока и в каком месте?