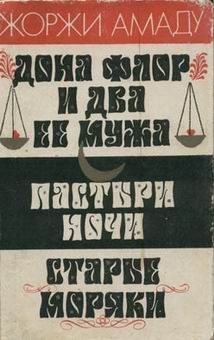Пастыри чудовищ (СИ) - Кисель Елена Владимировна
— Ну вот, теперь поговорим как деловые люди…
Раздраженный голос Гэтланда:
— Послушайте, откуда только вы взялись такой?
И бодрый ответ:
— Ай, я вас умоляю! Всё равно там больше таких не осталось.
* * *
Ночь приходит милосердно: укрывает остатки суетливого, горького, рассыпающегося по частям дня. Лечение животных, которые поранились. Когда за твоими спинами наемные рабочие сгружают на носилки тех, кому уже не помочь. Потом еще посмотреть в сознание тех, кто начал отходить после эликсиров. Кивнуть победоносно ухмыляющемуся Кейну Далли, который явился-таки с подписанным договором и ещё сетует: эх, маловато удалось выжать, да и обязанностей добавилось…
Дела просыпаются — зерном из распоротого мешка, перемалываются в белую пыль и истаивают как маловажное. Что-то нужно было сказать Мел. О чём-то поговорить с Амандой. Спросить Кейна Далли… о чём?
Вечер пропадает из памяти, помнится только — как она смывает со слегка дрожащих рук кровь, и прижимает мокрые ладони к лицу, к щекам… И отшвыривает в угол пропахшую гарью и смертью рубашку — запах всё равно не уходит, даже после того, как она плещется над тазом. Въелся в волосы, в кожу, в стены внутренней опустевшей крепости.
Позже, уже ночью, она поднимается к себе. В настольной лампе светится желчь мантикоры — нужно закрыть, потому что по стеклу змеятся окрашенные в алый языки пламени, и от этого кажется, что в комнате горит живой огонь…
Слишком много огня сегодня. Гриз стоит, прижимаясь лбом к треснутому оконному стеклу, как к успокаивающе-холодным льдинкам.
В крепости был пожар, и улицы теперь затихли в трауре — ждут прощальных песен. И из окон города — чёрные дымы, и в воздухе пепел.
Будет утро, — пытается сказать себе Гриз. И дома в крепостях отстроят. Тех, кто ушел, нужно оплакать — и потом встать. Это просто ночь после пожара, но уже всё, ты слышишь? Будет опять утро, и ты встанешь из пепла. Как феникс.
Гриз поворачивает лицо, чтобы прижаться к стеклу теперь щекой. Уговоры не действуют, комната плывёт в глазах, шаг — упадёшь, но не на пол, а в жидкую черноту, которая так близко, которая забрала сегодня не только Йенха…
Воздух словно сгущается, пропуская длинные пальцы, легко смахивающие маленькое пятнышко крови, которое притаилось чуть ниже виска.
— Ты испачкалась, аталия.
Дом предает хозяйку: не скрипит под шагами врага. Рассохшиеся половицы несут бережно, двери послушно раскрывают объятия, петли, которые она не смазывает специально, прижимают невидимые пальцы к невидимым губам. Тсс, — шепчут двери, стены, воздух. Смерть должна приходить бесшумно. Являться из ниоткуда: в белом.
— Убирайся.
Какими словами можно прогнать смерть? Вышвырнуть из-за плеч, разорвать круг белизны и пустоты, обратить в прах пальцы, непринужденно вырисовывающие бабочек на ее плечах, вернуть в мысли легкость сквозь пламя и кровь, еще стоящие перед глазами?
Рядом со смертью тяжко дышать, хочется закрыть глаза. Закрыть, чтобы не встретиться взглядом со светло-голубым льдом в оконном стекле, сжать губы — и ждать, что тебя коснется леденящее дыхание…
По виску скользит горячий шепот, соскальзывает, касается щеки отзвуком огня виверния.
— Знаешь, чего мне иногда хочется? Швырнуть тебя на труп очередной зверушки. Разорвать одежду. И брать, пока ты не перестанешь кричать. Ты никогда не замечала, что судороги смерти и судороги наслаждения похожи, аталия?
— Ты чокнутый извращенец, Нэйш. Однажды…
Он отвечает смешками. А может, поцелуями: одно перерастает в другое, и отзвуки огня предательски прорастают в кровь, выдохи становятся короткими и жгучими. Ладони замирают на ее бедрах, словно музыкант готовится отпустить свои пальцы гулять по струнам, губы неспешно спускаются вдоль шеи: медленно, не пропуская ни одной точки.
— Возбуждает, правда? Ни к чему притворяться, аталия. В конечном счете, все мы — бестии. Инстинктами не следует пренебрегать. Они могут навредить, не спорю, если с ними не совладать. Но если поставить животную сущность к себе на службу и выпускать в определенные моменты — это очень даже…
— Есть хищники, которых нужно держать в клетке. То, что нельзя приручить.
Хищник, которого нельзя приручить, тихо смеется в волосы Гриз, расстёгивая ее рубашку и спуская с плеч. Пальцы медленно начинают выводить вступление по ее коже — и она ждет боли…
Но руки смерти нежны и невесомы. Только кончики пальцев напитались огнем — с чего все взяли, что они у убийц пропитаны холодом? — и теперь без устали переливают его под кожу. Грудь, живот, бедра, плечи…
— Слабые точки есть у всех, разве нет?
Она прикрывает глаза — все силы уходят, чтобы не дышать, потому что с воздухом из груди вырвутся постыдные всхлипы. Темнота и бездна за спиной, полная насмешливым шепотом, и время перестает существовать, каждый рваный выдох уносит в никуда пласты настоящего и прошлого, и если ступить — шаг унесет на месяцы, может, на годы. Бездна тянет упасть в нее, услужливо высвобождает тело от ткани, у бездны пальцы, пропахшие смертью, и вкрадчивый, полный скрытого безумия шепот.
Сумасшествие заразительно, думает Гриз, чувствуя, как бездна закутывает в себя и влечет, влечет… Я не должна была с самого начала… я не должна была тогда, год назад.
И делает шаг.
В жаркую бездну наслаждения.
В прошлое — становясь на год (на жизнь?) моложе и наивнее.
Большой заказ, со сбежавшими из частного зверинца грифонами. Хозяйка пригласила их на застолье по поводу «дорогих малюток» (каждая из малюток была выше хозяйки), и весь проклятый вечер Гриз не могла отделаться от взгляда Нэйша, и чувствовала себя хуже, чем после того, как ей пришлось останавливать эту невесть почему взбесившуюся стаю, хуже, чем после тоников Аманды, хуже, чем после объяснения с престарелым и выжившим из ума хозяином поместья (тот выжил из ума еще больше, когда увидел одного из самцов грифонов, который по недоразумению вылетел не на Гриз, а на Нэйша). Чувствовала себя — бабочкой, измотанной долгими попытками избежать сачка.
Она так и не смогла потом вспомнить — что ей налили в бокал и выпила ли она хоть глоток, или была пьяна одной водой, усталостью и голодом, струившимся оттуда, из угла.
Когда он поднялся за ней в отведенную ей комнату — ступеньки, половицы и дверь впервые сговорились и предали, а подлый камин обеспечил уютное потрескивание, почти заглушившее шепот, запутавшийся в ее волосах.
— Сколько мужчин у тебя было, аталия?
— Один, — соврала она, потому что был не один мужчина, а один раз — единственная ночь, потому что мужчина тоже был единственным, потому что иначе было нельзя и потому что…
— Жаль, — шепнул он, забираясь ей под одежду, — я хотел быть у тебя первым. Мне нравится быть первым, наверняка ты это уже заметила.
Он и без того был первым, потому что тот так не делал, и вообще, так не должно было быть, она пролистывала все эти любимые романы Уны со снисходительной усмешкой, она старалась не вспоминать о своей первой ночи, а то, что творил он — было невозможно, неправильно, безумно. Молчать, — приказала она себе. Не давать прорваться просьбам или стонам, не показывать ему… ничего ему не показывать.
Дыхание предавало: оно заканчивалось, и слова упрямились: не хотели появляться на свет.
— Зачем тебе…
— Чтобы показать тебе, что такое наслаждение, аталия. Почему ты думаешь, что знание уязвимых точек может помочь только убийству?
Как можно прогнать от себя смерть? Надавать пощечин? Закричать и затопать ногами?
За год она сотню раз задала себе вопрос — почему позволила ему тогда подтолкнуть ее к кровати, смотреть на нее, касаться ее, быть в ней… Может, не устояла перед искушением — он все же красив, даже чересчур для нее красив, а может, устав от ожидания и чего-то подспудного, подумала: «Почему нет?»