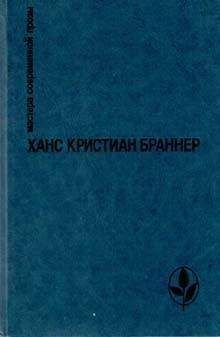Наталья Рузанкина - Возвращение
— Прости меня! — ужасаясь вселенской пустоты и печали сердца, Принц упал на колени и коснулся края сверкающих одежд Хранителя. — Прости меня и убей, убей за сотворенное. Пусть будет милосерден твой меч!
И сострадание, и любовь вновь зажглись в лице ангела, слепящей, как луч, рукой он коснулся склоненной головы человека.
— Не передо мной, — сверкающий шепот тронул воздух. — Не передо мной твоя вина, а перед Предвечным, перед Создателем Долины.
Он зябко повел плечами, будто ему, небесному, было холодно в зимнем земном саду.
— Я открою тебе тайну: в тот день, когда ты очнешься от одной своей неудавшейся жизни, в тот день в одном из миров, скучных и скудных, как пепел, как каменистая земля, проснется и Она, проснется и смутно затоскует о некоей небывалой красоте и радости, что некогда пеленала ее бессмертную душу. Как и ты, она не умрет все эти тысячи лет, но мучения, раскаянье и память о Долине не будут дарованы ей, как тебе, ибо она не проклинала Чуда.
Впервые за все дни на земле она вспомнит изумрудный свет — тихий, лучезарный свет Долины и, отринув всё земное, пойдет на этот свет. Она тоже будет искать Погибшее, Принц, и придет в Долину своим путем.
— Мы встретимся? — закрывая лицо от ледяной жалящей поземки, спросил Принц.
Хранитель молча сломал свой меч, схожий с зеленой молнией, обломки с печальным шипением затихли в снегу. Изумрудное сверкание одежд его гасло, сливаясь с подступающим сумраком, стремительно и легко он пошел прочь, не оставляя следов на снегу, и вскоре скрылся за плотной метельной пеленой, со всех сторон окружившуй былого владыку Долины и его преображенного друга.
Глава III
Мое одиночество носило старинный плащ и шляпу, мое одиночество было темноволосым и темноглазым, и чаще печальным, чем радостным, мое одиночество жило в пасмурном городе, а я ненавидела дожди…
Я ненавидела дожди, болея, сидя у окна и вспоминая изумрудный свет мира, что погиб когда-то, не ведая, что я любила его больше жизни, а с ним погибла и та моя жизнь и началась какая-то другая, ненужная мне…
В этой ненужной жизни я суетливо-обреченно спешила на работу в ненавистные, жемчужно-пасмурные утра, торопливо-растерянно поднимала взгляд от земли и встречалась с самыми преданными на свете глазами — глазами моего одиночества. Его старинный плащ шуршал по заплеванному тротуару, его осанка была осанкой триумфатора, въезжающего в Рим, но печаль струилась от него, и я захлебывалась в этой печали.
Изумрудный свет лежал в моей душе заповедными холстами, лугами, по которым хотелось бежать к раю, к тому раю, что зацветал на горизонте.
О, как трепетали там цветы, дышали деревья, летали птицы, о, как, улыбаясь и плача, ждал меня на пороге цветения тот, у ног которого умрет мое одиночество. Но я…
— Силы небесные, Леванцова, опять заснула! Нет, мне уже эта летаргическая…
Я покидаю изумрудный свет и одиночество на старинной улице в старинном же плаще, я открываю глаза, я улыбаюсь, боясь и ненавидя, я мучительно боюсь этого голоса, голоса Черно-Белой, чувствуя непостижимым образом, что он может погасить мой изумрудный свет и навсегда закрыть дорогу в те вдохновенные сады, что шелестят, дрожа, на ускользающем горизонте.
— Ты краеведов читала? — наступает редактор, нависает отвратительным черно-белым изображением над моим насмерть перепуганным корректорским столом, над задумчивым букетом сирени в скучающей вазе, над всей моей крылатой, еще сонной от пригрезившегося света душой.
— Я тебя выкину! Я тебе статью нарисую, ты у меня устроишься! Вот! Целое предложение: «За подлотворный труд Ф.С.Видьманову присвоено звание заслуженного работника культуры»! Идиотка! А если бы я не увидела? Вместо плодотворного — подлотворный! Господи, уволят, из-за этой летаргической уволят… — жалобно завывая и постукивая кривыми каблуками, Черно-Белая скрылась за дверью.
Стол радостно вздохнул и скрипнул, сиреневый букет выпрямился и улыбнулся, Татьяна Ивановна шевельнулась в углу серой сонной кошкой и сочувственно блеснула на меня бифокальными очками.
Аккуратная, розовая, благоухающая очередным романом Лерочка беспечно помахала ухоженной ручкой, Сашка-Профессорша, еле сдерживая смех, уткнулась в корректуру… Дорогие мои, дорогие! В ожидании изумрудного света в душном пребывании на этой скудной планете я люблю только вас. Когда-нибудь я напишу и о вас, о ваших дивных садах, шелестящих на горизонте, о ваших самых давних и преданных друзьях-одиночествах, ведь у каждой из вас свое одиночество — легкое, беспечно-благоухающее у Лерочки, строгое, серебряное, как ручей под солнцем, как сверкающая сталь клинка — у Сашки, домашнее, уютно-мурлыкающее — у Татьяны Ивановны. Каждая из вас, изнемогая, идет к своему раю, надеясь встретить его здесь, в пыльно-пасмурном городе, а не в Долине Смертной Тени… И я…
— Ей бы костюмчик сменить, — поучительно замечает Лерочка, вдохновенно вкушая шоколад и заинтересованно разглядывая воробьев за окном. — На нее нестиранный трикотаж плохо действует.
— Отсутствие мужика на нее действует, — обиженно гудит из своего угла, завешанного кошачьими физиономиями, Татьяна Ивановна. — Замуж ей надо! Есть у меня на примете один отставник…
— Смерти ты человеку хочешь! — ужасается Лерочка, красиво слизывая с губ шоколад. — С голоду помрет с ней, она ж не готовит ничего, да и не умеет, наверное, консервы лопает, да…
— Лер, ты «экономистов» мне вчера на стол положила? — Сашка-Профессорша, странно гримасничая, старается сохранить невозмутимо-дружественный тон.
— Ну, я! — Лерочка надменно вскидывает голову. Между Лерочкой и Сашкой идет незримое соперничество, потому что Лерочка — всего лишь пустячный корректор, а Профессорша — младший редактор, непосредственный ее начальник.
— Иди-ка сюда и прочитай, — невозмутимо предлагает Сашка, перламутровым сверкающим ногтем упираясь в верхнюю строчку.
Лерочка крылато вспархивает, благоухающим разноцветным эльфом плывет по воздуху к Сашкиному столу, томно разглядывает корректуру и восторженно произносит:
— Ускоренными темпами в республике наращивает производство Зареченский станкостроительный завод, образованный ровно 20 лет назад… — и тут неизвестно почему фарфоровое лицо ее, лицо Мальвины, становится такого же цвета, как ее розовый шелковый жакет.
— Там не «ровно», — Сашка, устав гримасничать, откидывается на спинку стула и смеется хорошо, заливисто, со вкусом, разглядывая застывшую, как соляной столп, Лерочку. — Там другое… Молись, чтоб Черно-Белая не увидела…