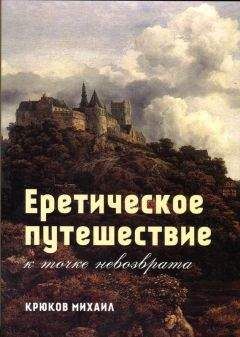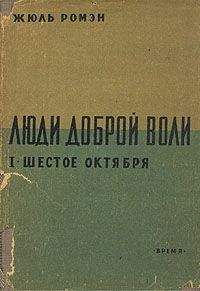Марина Вишневецкая - Пусть будут все
Ну, Кавалерия, не устала? А ребятки уже!
Филипп за глаза зовет ее Кавалерией – по телефону-то слышно. Иногда даже Красной Кавалерией. А Ксенька так боится его потерять – только шипит, приставив палец к губам. А потом виноватым голосом: але-але, мамочка, я тебя слушаю.
А недавно едут втроем в его “мицубиси”. Филипп оборачивается и на что-то незначащее вдруг: так точно, краском. Ксеня спрашивает: что такое краском? Отвечает, знает, хоть что-то знает: красный командир. А почему красный? Ну как же, говорит, Валерия Игоревна при Советах росла, в комсомоле членствовала, а в партии большевиков?
Чуть не ответила фразой Раневской: неужели я уже такая старая, ведь я еще помню порядочных людей… Но промолчала – опять ради Ксеньки. А может быть, именно ради нее и не надо было молчать?
Был бы здесь Вячек, хотя бы ответственность можно было с ним разделить. Ведь что такое Филипп? Это – Вячек навыворот. Это – Ксенькино бегство ото всего, что ее с младенчества измотало в отце.
В их лучшую пору Ксеня была мала. И когда он закуролесил, тоже мала, но уже могла приподнять телефонную трубку, думая, что звонит: папа, ты где, Синька ждет! Она и синиц звала синьками. Тыкала пальчиком за окно: синька-синьк… А потом показывала на себя, сидевшую на ветке руки, и смеялась. Это была ее первая шутка, можно сказать, каламбур – в год и семь. А в четыре с половиной (она тогда говорила, что ей половина пятого) с упоением читала еще студенческий Вячеков стих:
Я – нрав, я нварь, снегиря киноварь.
А я ветра рвань, сны весны – фи враль!
А я бесяц-бард: апхчи, насма€рк!
И как же она всякий раз после этого насмарка с неправильным написанием и ударением хохотала.
Насмарку снег, насмарку мрак.
А прель листвы во весь фольварк,
Пой май, пой май – меня за хвост,
Птица, реки с рекой внахлест,
И юнь меня, звени и юнь,
Юли листвой, луною лунь…
То-то Филя порадуется, если она прочтет им этот стишок вместо свадебного. А Ксенька, наверно, даже подхватит… Она и сейчас по-своему любит отца, хотя что-то в ней надломилось, пока они ждали его обратно. И даже когда дожидались – а возвращался он трижды: от аспирантки Арины, от переводчицы Вики и от какой-то совсем уже потаскушки-студентки – возвращался, без тени вины, наоборот, обрушивая на них столько радости и любви, будто отбившийся от поезда пес, триста километров проскакавший по рельсам галопом, счастливый, голодный, с языком у тебя на плече – но Ксенька все равно поначалу дичилась. В первый день в его сторону не смотрела, а ночью подхватывалась, хотя ее бывало и утром не разбудить, прибегала к постели: здесь, не ушел ли? В самый первый его приход – сколько ей было? – без одной недели четыре, ночью шнурки в его ботинках связала, в обеих парах. А когда он вернулся от Вики (Ксеньке было объяснено, что папа эти полгода жил в своей первой семье, где у него росли мальчики – Валя и Коля), пнула ногой его чемодан, открыла книжку и сделала вид, что читает: я от Вали ушел, я от Коли ушел, а от тебя, Синька, и подавно уйду. И побежала на черную лестницу плакать. Она туда лет до семнадцати бегала, уже не только поплакать, уже тайком покурить и по мобильному посекретничать. У нее с мальчиками очень долго не складывалось, выбирала себе повес вроде Вячека…
Конечно, Филипп никуда не денется. Он, как столб – заземленный, пустой, надежный. Видимо, Ксеньке сейчас это важней любви.
А любовь – что такое? Умру, если он уйдет. Умру, если он не вернется. А он и ушел, и вернулся, и снова ушел. И ты ни жива ни мертва весь бабий век. Весь недолгий – бьешься карпом на сковородке, бегаешь курицей без головы. Срываешься – реже на учеников, чаще на родного ребенка. Зато стихи на уроке читаешь (“О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим…”) с такой дрожью в голосе, что у девочек слезы из глаз, а у мальчика Леши – смотреть за окно! проверить верхнюю пуговку, нет, застегнута! – вон как бедный заерзал, должно быть, восстание плоти…
Вячек хотел, чтобы праздник никогда не кончался. И если праздник кончался здесь, уходил туда, где все только еще начиналось. Где его старые шутки смешили до слез, навязшие в зубах стихи вызывали восторг, а продуманные мужские подходы поражали спонтанностью. По крайней мере, когда его аспирантка Арина пришла объясняться (так с порога и начала: чтобы все произошло “при общем согласии”, все друг друга поняли и простили), поставила на стол торт, весь в ядовитого цвета розочках и листочках, а вино ей Лера открывать запретила, но она все равно достала из сумочки штопор и стала крошить им пробку… кажется, это был кагор, ну да, начиналась Пасха… А Советская власть вот только что кончилась, Евтушенко вышел из моды и из учебной программы, видимо, тоже. Лера сказала так просто, только бы что-то сказать:
– “Всецелуйствие в разгаре, хоть целуй взасос кобыл…”
А девушка, как все девушки ее лет, приняла услышанное на собственный счет, вспыхнула, опустила свой томный, синий, в комочках синей же туши взор:
– Да, мы помногу целуемся, поцелуй – это символическое продолжение разговора, но в поцелуе есть и мотив кормления, в любом поцелуе, но в наших… Раз вы сами об этом заговорили… Иногда Вячеслав кормит меня изо рта, разжует и как будто птенцу… Это так потрясающе, что он видит во мне еще и ребенка, то есть я хочу сказать, что стала всем для него! И вы не должны его осуждать, я пришла к вам с робкой надеждой оправдать его, вот! И похристосоваться…
А Лера, за стол с ней так и не сев, скупо, сухо, как от доски:
– Я продолжу цитату: “Хоть целуй взасос кобыл. Для чего Христа распяли? Чтобы лишний праздник был!”, это Евгений Евтушенко, поэма “Казанский университет”. Первый эпиграф к поэме: “Задача состоит в том, чтобы учиться. В.И. Ленин”. Второй эпиграф к поэме: “Русскому народу образование не нужно, ибо оно научает логически мыслить. К. Победоносцев”. Вам, Арина, какой эпиграф ближе? Надеюсь, что первый! – и сумку ей в руки, и штопор, слава богу, что не сквозь ладонь. – Вот идите себе и учитесь… – и плащ ей с вешалки принесла, весь жеманно пожатый, весь выспренно фиолетовый. – У Вячеслава Валентиновича. Вам бешено повезло! Он редкий, он охренительный наставник молодежи!
И захлопнула за ней дверь с такой силой, что фарфоровый бюст Калинина, обливной, раритетный, с табличкой “стахановцу производства”, память о деде, рухнул со шкафа. И восстановлению, как объяснили ей в мастерской, не подлежал. Да и денег на восстановление не было. Денег не было тогда ни на что, зарплату задерживали по несколько месяцев, так что тортиком, который по-хорошему надо было снести на помойку, ужинали с Ксенькой три дня. И еще ядовито-зеленый крем на булку намазывали.