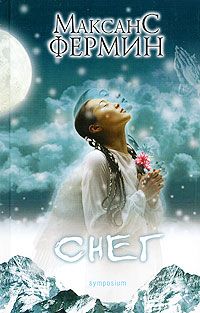Р. Скотт Бэккер - Око Судии
Поздняя осень, 19-й год Новой Империи (4131 год Бивня), Момемн
Человек вечно стремится скрыть подлое и низкое в своей натуре. Вот почему, уподобляя себя животным, он называет волков, львов или даже драконов. Но больше всего, подумал мальчик, человек напоминает презренного жука. Брюхо прижато к земле. Сгорбленная спина отгораживает от мира. Глаза слепы ко всему, за исключением того немногого, что могут увидеть.
Закончив Погружение, Анасуримбор Кельмомас сидел на корточках в тени гранита и, разведя колени и наклонившись к земле, чтобы лучше было видно, наблюдал за насекомым, которое убегало прочь по древним плитам пола. Сверху беззвучно покачивался между колоннами большой железный светильник в виде колеса со свечами, но его свет был лишь чуть ярче отблеска на спинке жука. Обхватив руками колени, Кельмомас переполз вперед, поглощенный мелкой суетой насекомого. Хотя позади вздымалась мрачная чаща колонн, голоса хора звучали где-то совсем близко, из множащихся теней мальчика, вознося гимны, в которых звучали самые льстивые славословия Храмовой молитвы.
О милосердный Бог Богов,
Ты, что пребываешь средь нас,
Несть числа священным именам твоим…
— Покажи, — прошептал жуку Кельмомас. — Проведи меня…
Вместе они двинулись в дальние уголки Аллозиума, туда, где темноту освещали только парящие в воздухе булавочные уколы молитвенных свечек. Жук обогнул резное основание колонны, оставляя следы в пыли, как будто стежки на ткани, — Кельмомас уничтожал эти следы своей маленькой ножкой, обутой в сандалию. Скоро они добрались до самого дальнего коридора Форума, где восседали в своих роскошно украшенных нишах статуи Ста Богов.
— Ну куда же ты? — пробормотал мальчик, усмехаясь. Он заметил в холодном воздухе парок, оставшийся после слов, дохнул пару раз, просто чтобы полюбоваться на свое дыхание — живое доказательство материальной жизни. Потом он лег щекой на холодную плитку, глядя в бесконечное пространство коридора. Глазурь ласкала кожу. Не подозревая о пристальном внимании к себе, жук продолжал путь, то спускаясь в просветы между небесно-голубыми плитками, то снова выползая из них. Он направлялся к зловещей горе — статуе Айокли, Четырехрогого Брата.
— Вор?!
По сравнению со святилищами братьев и сестер Айокли его собственное святилище было дешевым, как ломаный грош. Напольные плиты заканчивались на пороге. Камень, обрамлявший нишу, был гол, за исключением нескольких насечек, нанесенных на правой колонне. Идол, низенький рогатый толстяк, присевший, словно над ночным горшком, казался лишь игрой теней и тусклого света, вырисовывавшейся из бархатной темноты. Он был вырезан из черного диорита, но не имел ни драгоценных камней вместо глаз, ни серебряных ногтей, которыми могла похвастаться даже Ятвер. Суровое, по прихоти какого-то давно покойного мастера, его выражение лица показалось Кельмомасу неестественным, если не сказать откровенно нечеловеческим. Он ухмылялся, как обезьяна. Скалился, как собака. Глядел в пространство влажным девичьим взглядом.
Идол тоже наблюдал за жуком, который торопливо скрылся в его мрачном жилище.
Юный принц империи шмыгнул в тесную нишу, пригнувшись, хотя до резных сводов над головой оставалось еще далеко. Воздух пах жиром свечей, пыльным камнем и чем-то металлическим. Мальчик улыбнулся каменному божеству, скорее кивнул, чем поклонился, и принял похожую позу, склонившись над своим неразумным объектом наблюдения. Повинуясь безотчетному капризу, принц одним пальцем прижал жука к каменному полу. Жук задергался под кончиком пальца, как механическая игрушка. Кельмомас придержал насекомое, наслаждаясь его беспомощностью и сознанием того, что может в любой момент раздавить его, как гнилое зернышко. Потом второй рукой оторвал жуку две ноги.
— Смотри, — прошептал он смеющемуся истукану. Пустые вытаращенные глаза статуи равнодушно смотрели вниз.
Кельмомас поднял руку, театрально расправив пальцы. Жук метался в откровенной панике, но потерял направление, и теперь он возвращался в одно и то же место, вычерчивая у коротких ног идола маленькие круги. Один за другим, один за другим.
— Видишь? — воскликнул Кельмомас, обращаясь к Айокли. Они смеялись вместе, ребенок и истукан, так громко, что заглушали песнопения.
— Они все такие, — пояснил мальчик. — Надо только покрепче прижать.
— Что прижать, Кельмомас? — спросил у него за спиной глубокий женский голос.
Мама.
Другой мальчик мог бы испугаться, даже устыдиться, если бы мать застала его за таким занятием — кто угодно, но только не Кельмомас. Хотя ее загораживали тени колонн и голоса, он все время знал, где она, краешком сознания следил за ее аккуратными шагами (хотя он не знал, как это получается).
— Ты уже все закончила? — воскликнул он, стремительно поворачиваясь. Личные рабы раскрасили ее тело белым, так что под складками малинового платья она казалась статуей. Талию стягивал пояс, украшенный киранейскими узорами. Головное украшение с нефритовыми змеями оттеняло ее щеки и не давало разметаться роскошным черным волосам. Но даже в этом облике она была самой красивой на свете.
— Вполне, — ответила императрица, улыбнувшись, и украдкой закатила глаза, словно говоря, что с гораздо большей охотой приласкала бы любимого сынишку, чем изнывать от скуки в обществе священников и министров. Очень многое ей приходилось делать лишь ради соблюдения внешних приличий, и Кельмомас это знал.
Как и он сам — только он делал это не так хорошо.
— Тебе ведь моя компания больше нравится, правда, мамочка?
Он произнес это как вопрос, хотя ответ уже знал; ей становилось неспокойно, когда он читал вслух движения ее души.
Улыбнувшись, она наклонилась и протянула к нему руки. Он бросился в объятия этих пахнущих миррой рук, глубоко вдыхая в себя ее обволакивающее тепло. Она провела пальцами, словно гребнем, по его нечесаным волосам, и он поднял глаза, поймав ее ласковый взгляд. Хотя свет от свечей едва доставал сюда, она словно вся сияла. Кельмомас прижался щекой к золотым пластинам ее пояса и обнял ее так крепко, что на глазах у него выступили слезы. Не было другого такого надежного маяка. Другого такого убежища.
«Мамочка…»
— Пойдем, — сказала она и за руку повела его обратно по галерее с колоннами. Он пошел за ней, движимый скорее любовью, чем послушанием. Бросив прощальный взгляд на Айокли, Кельмомас с удовлетворением увидел, что тот продолжает смеяться над жучком, суетливо кружащим у его ног.
Рука об руку они двинулись к белому свету. Пение слилось в неразличимый гул приглушенных голосов, и на их месте возник более глубокий и более властный звук — от него задрожал даже пол. Кельмомас остановился: ему вдруг изо всех сил захотелось не покидать тихие камни и пыль Аллозиума. Рука матери вытянулась, как веревка, и их переплетенные пальцы разомкнулись.