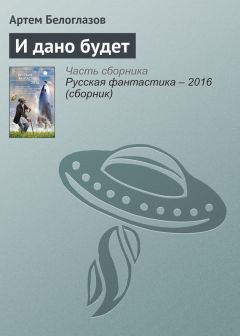Георгий Эсаул - Моральный патруль. ОбличениеЪ
Вы - милый, Джек, но нищий! – Элен примирительно улыбнулась, кинула графу Якову фон Мишелю очаровательную улыбку, послала воздушный поцелуй с чириканьем соловья.
Граф Яков фон Мишель не огорчил девушку, не сказал, что не её имел в виду, когда говорил о красивых нимфах с сиянием вокруг головы.
Небольшой городок встретил улюлюканьем мальчишек, шипением старых женщин (в спину Элен) «Проститутка», лаем борзых с лебедиными шеями.
Собаки почуяли настоящих воинов, а не прокисших слесарей, лаяли восторженно, мечтали о ласковых сильных руках воительницы и о снисхождении от огромного – мечта каждой охотничьей собаки – варвара.
— Хе-хе-хе! Бесстыдница, шалава беспутная, а еще юбку натянула. Тьфу, на тебя, пройда; чёрная свеча на тебя давно у чёрта припасена! – бабка в лохмотьях побежала к Элен, споткнулась, возилась в пыли, проклинала молодость и красоту – так кулик проклинает мелиораторов.
Конан варвар небрежно опустил дубину на череп старушки – даже не треснуло, а хлюпнуло, словно в сапоге.
— Нарушительница спокойствия! – Конан сказал для себя, усмехнулся, поправил кудрю, будто выпил стаканчик молока, не достопочтенную старушку – шелк ей и бисер на гроб – убил.
— Щадите старость, Конан! – граф Яков фон Мишель кашлянул, обратился к напарнику на «вы», но затем передумал – нельзя осуждать опытного работника, который прикрывает спину командиру; вдруг, старушка держала за пазухой кинжал с ядом на лезвии. – Вы знаете свои обязанности, и я вам не указка, потому что дружественные приветствия – не рельсы в Космосе, не параллельные прямые, которые от скуки не пересекаются.
На фестивале песни и пляски имени Амфибрахия князь Ситроён дон Севилья представлял свою новую поэму «Пастушка художница и поэт-реставратор».
Умилительно: белые козочки на зеленой лужайке, мраморные колоны с золотыми ободками — гармония, изящество на грани хрустальной слезы.
Графиня Шереметьева Ольга Павловна недолюбливала князя Ситроёна за его чудные фигурки из глины – персонажи к произведениям; иногда фигурки из теста, что противоречит уставу пекарей и младогегельянцев-вегетарианцев.
В знак протеста против поэмы князя графиня Ольга Павловна разделась донага, облила себя духами «Монморанси» и подожглась – факел свободы и справедливости, упрека и неблаголепия.
Никто, понимаете, господа, никто не тушил огонь на графине Шереметьевой, а один сорванец из молодых фехтовальщиков прозаиков, даже поддувал, чтобы пламя не угасло Ленинской искрой.
— Сорванец! – Конан варвар повторил леденцовое слово и наступил мальчишке (мальчик швырялся камнями, но подошел непозволительно близко к моральному патрульному) на ногу – вой шакала, и паренек с раздробленными костями ноги свалился в пыль, будто мешок с мукой опрокинулся.
— Никогда он не станет танцором! Сердце у него ныло за экзамены по балетному искусству, а мысли дёгтем покрылись, безнравственные мысли о дурном!
Пусть без ноги моральные танцы показывает кухаркам! – воительница Элен сказала серьёзно, будто гвоздь в гроб пианиста вколачивала, но затем засмеялась – не хохотала, и Конан варвар тоже смеялся красиво, утонченно, но в то же время железно.
Поступки морального патруля организовали выпивох у дороги; мужики кланялись, заискивающе скалили зубы (у кого остались), прятали шкалики водки за спину и в портки.
К дому художника подошли торжественно, как за покойником.
Художник стукнул молотком в дверь, и тут же спрятался за спину Конана варвара, ухал филином, пищал, что нет теперь у него будущего, а под ноги смотреть страшно, в ад дорога.
— Ой, матушка моя родная, да работы тебе на год и на два языком, зятя твоего за десять копеек не продашь! – На крыльцо выскочила молодая женщина в прозрачном платье из крылышек стрекоз, войлочных туфлях и в бигудях, словно в голову забила костыли для мясомолочной промышленности. – Дорисовался муженек мой, огонь в глазах, а в кармане грусть и тоска вместо золотых дукатов.
Моральный патруль его привел; знала бы за что – оторвала бы тебе ноги и руки, усы бы выщипала, а твоей матушке сообщила бы, что ты нарисовал сам себя и вместе с портретом продал туркам-корсиканцам.
Пни сгубили тебя, даже без ответа вижу, по твоим сухим глазам и пухлым губам читаю – пни!
— Сударыня, если позволите, то я вклинюсь в вашу брань, равной которой только Звезда Путешественников над полем ржи, – Яков фон Мишель кашлянул в кулак, протер ладошку батистовым платочном с изображением королевского поэтического фазана. – Вы журите мужа, и не напрасно, даже доходы ваши, как жены повысятся за укоры; не негодяй он последний, но даже, если мы отбросим испускание газов из ягодиц в присутствии дамы, то останется моральным преступником, вольнонаёмным каменщиком из масонов.
Преступление его великое, но не до маточной грыжи, когда из тела выходит дрянь, а входит хорошее.
Ваш муж изображал пни на картинах, а должен – красоту, изящное, поэтическое и с идеалами пастушек.
Вы не пастушка, лицо у вас белое, холенное, не обветренное, поэтому поймете меня, даже возьмете в покровители, а в родственники я к вам не набиваюсь – неблагородная вы, без аромата морали.
Вы нарушили основы благонравственности: и подлежит, как на метле ведьме…
— Смертная казнь! – воительница Элен с завистью смотрела на шикарное золотое кольцо на указательном пальце правой руки женщины – будто солнце в руке.
Она втолкнула женщину в дом, старалась наступить на ногу сопернице по женскому вниманию, но опытная жена художника легко уклонялась от тонкого каблучка патрульной – так собака уклоняется от воинской повинности в животных войсках.
Следом за Элен и женой художника в дом вошли мужчины, искали обиду; граф Яков фон Мишель упражнялся в стихах, подбирал рифму к слову «казнь».
— Штраф, а не смертная казнь! – Конан варвар мягко изменил приговор, подмигнул напарнице, говорил одним подмигиванием: «Из трупа деньги не вытянешь!
Смысл нашего похода, если без денег?
Куры деньги не клюют, но и не даст никто нежным курам деньги».
— Вы убиваете в мужчинах пафос семейной жизни; не графиня, но упражняетесь в красоте, показываете себя киселем на молоке, а красоту и мораль женскую не соблюдаете, будто нет в вас титанового стержня с ванадиевым наконечником! – граф Яков фон Мишель поправил жабо, красиво взмахнул шпагой, но легкая досада сквозила в голосе сквозняком из-под двери: «Одни мужчины нравятся женщинам сразу, а другие мужчины доказывают себя, выставляют на продажу и чувствуют сиротами в прибрежной грязи.