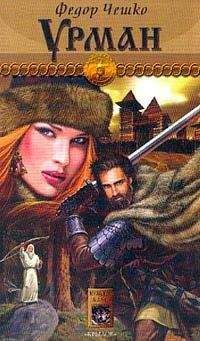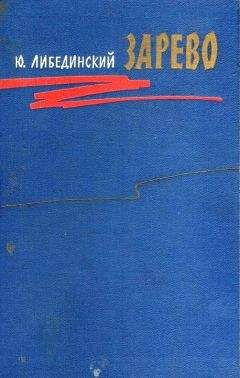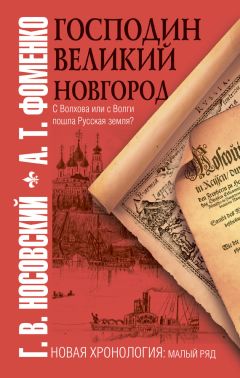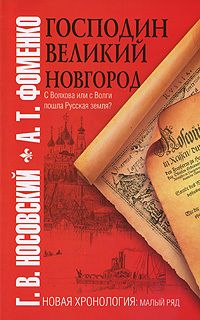Федор Чешко - Ржавое зарево
Там, на невыжженной по мокрети стерне что-то было, что-то еще более темное, неподвижное. Камень? Коряга? На полях вроде такого землепашцы не терпят… Снопик какой позабытый? А тогда отчего же при первом взгляде привиделись на нем две красные жаринки?
Словно бы отвечая незаданным этим вопросам, «что-то» шевельнулось, на долю мига обозначило себя более-менее различимым силуэтом и бесшумно втянулось в сумерки.
Собака, что ли? Может, конечно, и собака…
Жежень поднялся, кое-как отряхнул колени и торопливо зашатал к Холму.
Люди же, к примеру, бывают немыми… не как Полудура, а вовсе напрочь… и очень выдержанными люди бывают… Вот и собака эта попалась немая или очень выдержанная — потому-то и не облаяла встреченного впотьмах незнакомого… Немая или очень выдержанная ЖИВАЯ собака… И никакой то был не дух-призрак Шульгова пса, давным-давно убитого Векшей где-то поблизости… Или даже пускай дух-призрак пса, но никакой не… ой, нет — вот о таком «никакой» вспоминать бы лучше не надо…
Он поймал себя на том, что больше не трудится выискивать подходящую тропку, но только рукой махнул.
Какая разница?
В темноте бродить по междуградским тропинкам не безопасней, чем напрямки.
Большинство дорожек здесь ведет к чьему-то жилью. Вот лишь забреди — увидишь, что будет. Добрые-то люди на ночь глядя не шастают чужими дворами, а со злыми разговор короток… Это ведь только какому-нибудь чужаку может показаться (и то лишь с первого взгляда), будто люди здесь живут широко-беспечно!
Изо всех сил Жежень заставлял себя думать об опасностях простых и понятных, которые от обычных людей, — лишь бы только не давать потачки подозрению, ледяной пиявкой всосавшемуся в дальнюю изнанку души.
Случайно ли оказывались непопутными выбираемые тропки или что-то все же отводило дорогу? Что? Зачем? Векшину златому подобию захотелось к месту вашей с ней первой встречи? Или… Или чего-то там захотелось собаке, которая на деле и не собака вовсе, и даже не обычный волк?
Ой, нет, сказано же: об этом не надо!
Парень не заметил, как перешел с шага на бег. Он почти не поднимал головы, сутулился, пытаясь углядеть хоть что-нибудь там, внизу, но мутные, стремительно наливающиеся ночным мраком сумерки сводили эти старанья на нет. Даже когда удавалось приметить что-либо спотыкливое или колкое, подгибающиеся одеревенелые ноги все равно не успевали сберечь себя от беды.
Стерневатое поле, межа, потом — узкий проход, стиснутый двумя кривоватыми плетнями (не проход, а извилистая длинная лужа)… Обрадовавшиеся негаданной забаве псы с обоих дворов встретили и проводили Жеженя восторженным лаем…
Потом пришлось целую вечность ломиться сквозь хрусткую чащу высоченного (в полтора-два человеческих роста) бурьяна — хуже прежнего вымучивая да кровяня и без того уже искровавленные ступни, то успевая, то не успевая защитить лицо от хлестких ударов крупных тяжелых листьев, которые будто бы из свинцовых пластин наплющила неведомая вражья сила.
Ломиться-то парень ломился, но проломиться насквозь ему так и не удалось. Бурьяновая чаща внезапно уперлась в столь же высоченный плетень. Моля богов, чтобы длина изгороди не оказалась под стать ее высоте, Жежень двинулся было вдоль этой коварно и гнусно подловившей его преграды, а по другую сторону ветховатого жердяного плетения разрывалось от лая с полдесятка собак.
Далеко он продвинуться не успел. Псы стали кидаться на изгородь, и она отозвалась на их прыжки таким скрипом да хрустом… Парень мгновенно облился потом, по сравнению с которым стылая дождевая вода показалась едва ли не кипятком. А тут еще к песьему гавкоту присоединилась невнятная людская брань, и что-то, с треском пробив плетень изнутри, перешибло стебель бурьяна вершках в трех над Жеженевой макушкой. Да-да, стреляли, конечно же, нарочно с изрядным завышением — для острастки. Но парню как-то не захотелось узнать, что будет, если такая острастка на него не подействует.
Жежень шарахнулся прочь. Путаясь в треклятых зарослях, он потерял направление, оступился и вдруг съехал на животе по невесть откуда взявшемуся откосу, пребольно оцарапав грудь о какую-то торчащую из земли дрянь.
Он свалился в овраг, дно которого многодневный дождь превратил во что-то среднее между ручьем и болотом.
Выбраться по ощетинившемуся все тем же бурьяном и не менее могучей крапивой противоположному склону парень не смог. То есть склон этот вовсе не был таким уж неприступным, но чтобы влезть на него, следовало хвататься двумя руками. А Жежень, несмотря ни на что, так и не разжимал правый кулак, в котором стискивал обломок литейной вытворницы.
Плюнув на угрозу от собак и людей, парень затеял было карабкаться тем же путем, каким сверзился, — там примерно на середине откоса чернела какая-то яма, сулившая немного облегчить подъем. Вот только до этой ямы Жежень и долез. И не потому, что дальше бы не удалось — он просто не успел попробовать.
Яма была мелкая (как если б собака рылась) и очень свежая. Не успевшая оплыть исцарапанная земля горько пахла прелью и вроде бы чем-то еще. Добравшись туда, парень вновь оцарапался — на сей раз пострадало колено — и невольно сунулся щупать: что ж это там такое кусается?
Там кусался зуб. Единственный клык, уцелевший в давней, сухой да ломкой песьей челюсти. Леший всех раздери… Тогда, давно, до оврага было вроде как дальше, но… За эти годы его наверняка не раз подмывало, рушило склоны… Да и вряд ли убитую псину оставили валяться на выгоне… Так что, это та самая?! Хоть из небытия, но достала, укусила-таки?
А первая ранка, что пришлась как раз против сердца, саднила все ощутимей. Наверное, разъедал ее пробравший Жеженя холодный и липкий пот: молодой златоумелец вдруг напугался, что носимое на груди
Векшино подобье тоже могло пострадать при давешнем падении.
Так и оказалось. Наверное, тот же клык убитой годы назад собаки пропорол лядунку и оставил на мягком золоте изрядный след — без малого разворотил левую грудь изваяньица. Жежень не мог, конечно, разглядеть эту царапину в потемках, но смог нащупать ее пальцем сквозь прореху в лядуночной сыромятине.
Он не заметил, что, щупая, сполз обратно на овражное дно. Он не вспомнил, что совсем недавно мечтал избавиться от своего златого проклятия, испортить его до неузнаваемости, продать, утопить. Ранка против сердца болела, а парню мерещилось, будто это ноет увечье маленькой золотой Векши.
Наверное, Жежень, давно уже исчерпавший свой нескудный запас бранных словечек, попросту взвыл бы от безысходной досады на злую, издевающуюся над ним удачу. Взвыл бы протяжно и гулко, с тем жутким тоскливым бешенством, которым полнятся зимние волчьи песни.