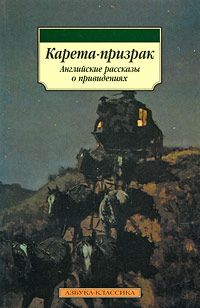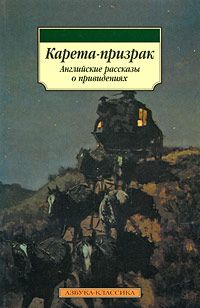Макс Фрай - 78
Кони — быстроплясы, холеные и крутобокие. Дети румяные и у каждого по утру — хлеба оборот и молока кружка. Женщины с плодоносными матками, что и дитя выносят в срок и северный ветер в полость спрячут, потому, как северный ветер весною прячется в матке у женщин, чтобы наши женщины звучали, как окарина в руке игреца.
Мужчины — крепки плечами и скудны речами.
Под окошком каждого фургона — герань и розмарин в подвесном горшке на медных цепочках крест-накрест.
Был у большого Борко царский вардо из семидесяти досок, с голубыми колесами, которые умели смеяться и плакать. Прадедом срублен вардо.
Ставил хозяин в оглобли пару черкасских кровных коней. Левый конь — как творог, правый конь — как уголь, и в горле у них четыре жилы, а в грудине по три сердца на брата. Одно сердце — конское, чтоб устали не знать, второе — волчье, чтоб дорогу по ночам чуять, третье — человечье, чтоб Богу молиться.
Лихому конокраду жеребцы Борко не давались — сразу рвали вожжи, вздевались на дыбы чертом и ржали, как рожаница кричит.
Проснется Борко, прибьет конокрада, закричит коням: «Аррра!»
Кони смирялись и брели по полям люцерны от полуночи к заре, в травах да туманах по грудь, как корабли.
Всякий вечер Борко вплетал в их долгие гривы чабрец и ленты с молитвой Иисусовой, чтобы накрепко помнили кони дорогу обратно.
Волки — и те коней Борко обходили десятой дорогой, а, повстречав случайно, отступали и земно кланялись.
Была у большого Борко верная жена с жасминовым чревом и бедрами, прохладными, как айран, сжав бедра могла она расколоть грецкий орех.
Она чесала густые волосы над огнем, пряла в дороге с песней, варила похлебку на полтабора, ни о ком худого не думала, за это Бог ее радовал. Что ни год — то сын, что ни год — то хороший. Шестерых сыновей родила и ни одного гроба не делали.
Борко радовался — есть, кому продолжить род, есть, кому передать семь путеводных звезд и семь крестов придорожных из камня дикого — верные пути до Горького Моря.
Много лет прожил Борко с женой, душа с душой говорила, тело в тело проникало, но в тот год уронила жена Борко веретено у жаровни, и сказала мужу:
— Иди без меня к Горькому морю. Меня утром Богородица окликнула, буду теперь с ней Покров прясть. Не горюй, другую бери.
Закрыла голову юбкой и померла у жаровни в январе. Стала белая и молодая.
Шесть цыган, по числу сыновей, понесли тесовый гроб в гору, копали урвину глубоко до янтарных пластов в мерзлой земле, а Борко лбом в угол гроба лег.
Погребли гроб.
Поднялся Борко с колен, зачерпнул из насыпи горсть земли и повел табор к Горькому морю.
А правый кулак с могильной землей не разжимал.
Месяц не разжимал, второй месяц не разжимал — земля с жениной могилы в кулаке Борко в камень сшиблась, в кожу въелась — пальцы стали корни скорченные, в узлы жилы завязались, кровь остыла, как у змея.
Холодно в царском вардо без матери. Сыновья от велика до мала молчали, сидели тесно на лавках, качали черными головами в такт ходу повозки.
Борко молчал на козлах, правил, не глядя, левой рукой.
На стоянках вдовец сторонился людей, сидел один на бревне, потягивал черное вино из фляги, смотрел на семь звезд — и видел восьмую.
На той звезде сидела его жена с Богородицей и крутила пестрядинные нити Покрова на январские веретена.
Умерло ремесло в таборе Борко.
Лаутары — такие цыгане, что сами песен не играют, не ворожат, котлы не лудят, не барышничают. Лаутары — мастера музыкальных инструментов, и Борко среди них прослыл первым. Из костного клея, из еловых и буковых певучих плашек, из волосяных струн, из колков острых выходили дети его рук.
Умел Борко из костей ястреба сладить пастушескую свирель-флуераш, мог сделать сербскую скрипку на семь ладов. Такие скрипки предсказывают ненастье и завораживают волкодлаков в голодные годы.
Наощупь и наизусть познал мастер все персторяды и переборы, персиянские и фрязинские и мадьярские. Тон к тону собирал он свадебные цимбалы, в безлунные ночи ягнячью кожу натягивал на ободы бубна и сорок бубенцов-шелестов подбирал так, как вино из бочки течет, как лозы вьются, как девушки смеются во сне.
Но отняла скорбь у мастера правую руку — и никто в таборе Борко не смел прикоснуться к инструментам.
Умерло ремесло. Плохое дело.
В начале апреля выдалась зарничная чудотворная ночь. Деревья по колено стояли в талой воде, несло по низам сырой корой и волчьей шерстью, верховые ветры ревели в кронах, бежали над живыми снежными водами семь звезд-волчениц. Погоня в небе клубами плыла.
Колокола вдали оплакивали Пасху. Косо плясали сполохи.
Табор спал, Борко край леса стерег в дозоре.
Поднял тяжелую голову большой Борко и увидел Приблуду.
Уронил флягу под ноги, выточилось черное вино. Приблуда размотала четыре глазчатые шали, рубаху распахнула, показала груди, малые и белые, как северные яблоки. Молоком львиным лились в землю складки павлиньего подола.
Приблуда окликнула лаутара по имени и взмолилась:
— Дай мне хлеба, большой Борко.
Зашаталась от голода, словно колосок, в последней муке схватилась тонкой рукой за плющи на стволе явора.
— У меня нет хлеба — ответил Борко.
— Есть, — молвила Приблуда — Там, — и указала на его правый кулак.
Застонав от боли, Борко разжал пальцы впервые с похорон жены, и увидал в ладони не ком гробовой земли, а горбушку ячменного хлеба, посыпанного горной грубой солью из польских солеварен.
Не сводя глаз с грудей Приблуды, Борко протянул ей колдовское снедево, приказал:
— Ешь.
Приблуда пала на корточки и ела, собирая крохи, как птица. Приблизилась и благодарно поцеловала Борко прямо в чашу ладони. Бычьей кровью налились руки лаутара.
Ожило ремесло. Хорошее дело.
Большой Борко повел Приблуду на каменистую пустошь. Там широко, там вольно. Сухой красный вереск клонился по ветру, аисты танцевали коленцами на болотах, валуны — свидетели наклоняли лбы.
Приблуда примяла спиной вереск и закрыла глаза.
Поднял Борко с молитвой по одному все восемь ее медленных подолов. Белые колени надвое развел, прорезной колоколец женского места увидел.
Лег плашмя, поцеловал в лицо, сделал ей кровь.
На рассвете он привел ее в табор, разбил кувшин с разбавленным сиротским молоком у костра и сказал сыновьям:
— Это ваша мать. Она с нами поедет к Горькому морю. Голода больше не будет.
Мужчины сняли замки с ящиков для инструментов — будет ремесло, будут деньги, будут деньги, будет хлеб, будет хлеб — будут силы, будем странствовать по дорогам — джал а дром, как прадеды говорили.