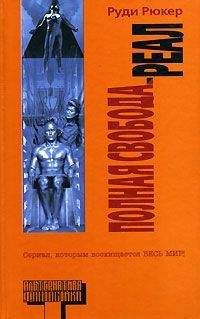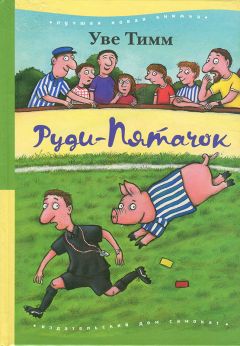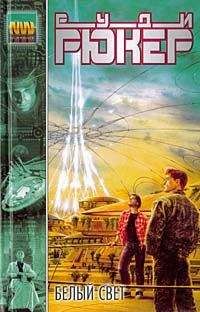Ника Ракитина - Ясень
Вбирала в себя звуки ночного леса… растворялась в нем… сливалась с кронами и корнями… уходила к Сарту, к пепелищам…
Она ощущала замок, как меч чувствует ножны…
А потом, так и не выпустив волчьей шубы, стекла в траву.
От дубов и сосен ложились на землю четкие утренние тени, а воздух между стволами казался напоенным сиянием. Сквозь откинутый полог шатра, опираясь на высокое изголовье, Керин смотрела на лес. Глубоко дышала, избавляясь от темного сна.
Стан просыпался. Раздували вчерашние угли в золе, громыхали котлами кашевары; кмети, позевывая, тянулись умываться к ручью. Сменились караульные. Кого-то громко бранил взъерошенный со сна Велем. Керин быстро опустила ресницы, услышав голосок Леськи:
— Тихо! Орешь, как пьяный кочет на заборе.
Велем окрысился, но бас приглушил. В губы Керин ткнулся мокрый край берестяной кружки. Питье было холодным и резким на вкус.
— Она скоро придет в себя? — Велем изо всех сил старался сдерживать голосище, но получалось плохо.
— Ты что! — шикнула Леська. — Нельзя. Ну, когда человек такой, это значит, его душа бродит где-то. Как цветок на серебряной нитке, — добавила она задумчиво. — А если дернуть слишком резко, нитку можно запутать или порвать. И вообще, — накинулась она на парня. — Я разве знаю? Думаешь, лечить овечек или там коней и людей — одно и то же?
— Ну-у… ты нас честишь то телками безрогими, то жеребцами перестоялыми — так велика ли разница?
— Тревожусь я. В Ясене такого не было. А тут уж в третий раз. Ну, как… этот… Незримый… пегушку съесть пробовал.
— Во второй, — поправил Велем. — Так-то она только мерзла.
— А после Казанного святилища? Наири говорила.
— Тю, рыжая. Надо душе уходить — значит, надо. Золотоглазая…
Чашка полетела, расплескивая зелье, Леська вскочила и зашипела.
— П-шла, п-шла, лиса драная! — раздался совсем близко чужой голосище: громкий, но невнятный, будто говоривший давился кашей. — Хочу — и иду-ик!
Было похоже, что рыжая вцепилась в татя когтями. Мужик орал, Леська визжала, но в то же время шум удалялся. Либо вмешалась охрана, но скорей здоровила Велем уносил за шкирки обоих. Ох, не повезло кому-то.
— Что такое?! — Керин узнала голос Гротана.
— Шершень! Девке ска… — судя по звуку, Велем припечатал крамольника о землю. И громко завернул сбегавшихся.
— Ты, мил человек, как зовешься и чьего десятка? — Шершень шумно поднял и отряхнул Леськину жертву. Тот что-то забубнил в ответ. Прорвалось: "Я мужчина!"
Керин хмыкнула, вытерла мокрую шею.
Снова заглянула в палатку Леська, решила, что Керин дремлет, и на цыпочках ушла.
— …А я ее саму хочу спросить. Раз она такая избавительница. Жниво самое ни на есть, перестоит жито. Мелдена мы в замок загнали — и ладно. Пусть сидит, а нам домой пора.
— И сам ли ты, Жаха, до такого домыслился? — нежно спросил Шершень. — Али подсказал кто?
— Мы с парнями думали. Сами!
— Тихо, — видно, Шершень надавил ему на плечо: каши в сварливом голосе стало побольше, а звука поменьше. — А с какими парнями?
— Ну, Гмыря из Студенца, Хуго… — как горох, посыпались имена и названия весочек. — Все хозяева справные, не голь.
— И дома ваши целы?
— Кабы целы, я бы в бучу не полез, — неохотно признался Жаха. — Но от хозяйства осталось. Да я, углежог, под Ясень пойду, заработаю.
Керин, наконец, вспомнила его самого: вороной мрачный дылда с намертво въевшейся в кожу угольной пылью, всклокоченной волосней и бородой под глазищи.
— Я этот Сарт видел. На него переть — это ж чистая смерть.
Керин не выдержала. Выглянула в щелку в пологе. Говорящие были, как на ладони.
— Садись, Жаха, — вкрадчиво произнес Шершень, — в ногах правды нет.
Мужик перестал топтаться и недоверчиво присел, но руки его никак не хотели пребывать в неподвижности: они то скребли нечесаное гнездо на голове, то лезли в черную, такую же растрепанную бороду.
— Выпьешь? — Шершень протянул угольщику кружку. Тот понюхал, нерешительно глотнул. Дернул ноздрями.
— А скажи мне, Жаха, были ли у тебя куры?
— Ну…
— Так были? — непонятно к чему вел Шершень.
— Были, женка держала, — сквозь зубы выдавил мужик. — Пять несушек и певун.
— А хорошие ли?
— Какое! — угольщик махнул рукой. — А певун как уклюнет — хочь домой не приходи. Хорь его съел.
— Съел, говоришь? — Гротан распрямил и потер ногу. — И что?
Угольщик оживился, даже руками замахал:
— Так я того хоря словил! Неделю ловил. И об стенку — жах!
— Хори… они живучие, — посетовал Шершень.
— От меня не уйдешь.
Гротан резко наклонился вперед:
— Так чего ж хоря отпускаешь?! Он в своем Сарте раны залижет — и опять твоих несушек драть. И если б только несушек.
Жаха немилосердно вцепился в волосы, губы его беззвучно шевелились, но оправдание подобралось не сразу. Да еще отвлекали скрип тетив да перестук деревянных мечей за деревьями. И заинтересованные лица немногих слушателей: они-то молчали, но ухмылки на рожах — не глядел бы.
— Так то… — Шершень поощряюще улыбался, и угольщик выдавил: — Так то хорь, а то… похуже. Мы в нору за хорем, а там… похуже… это… Душу загублю.
— Во, дурак — человек, — не вынеся, вмешался Велем. — С него шкуру драли — он терпит. Богов его в болото спускали — терпит. Дом спалили, жену снасильничали…
Угольщик набычился, глаза сверкнули злобой.
— Ты головой не мотай, — лениво потянулся Гротан. — Парень дело говорит. Допрежь, чем кулаками махать, примерься: в кого. Да и трус ты.
— Я-а?
— Избавительницу нам боги послали, а ты ее бросаешь. Тогда кто ты? Трус и есть.
Жаха заткнулся надолго.
Гротан не торопил. Керин знала, о чем охотник думает сейчас.
В общем, она думала то же самое: таких, как этот угольщик, в войске немного, да ложка дегтю бочку меда портит. Гнать бы в три шеи, но за ними потянутся домой другие. У каждого, почитай, под кустом детишки плачут и хлеб не скошенный. И поди объясни, что хоря надо добить в норе. Иначе все обман, пустое.
Иначе снова Незримые.
Золотоглазая встала. От резкого движения закружилась голова. Она откинула полог и зажмурилась. Велем и Гротан поддержали с двух сторон.
— Трусы дерутся лучше, чем храбрецы, — сказала Керин.
Жаха отвесил рот. Смешно дернулась борода-метелка.
— А почему? — ошеломленно спросил Шершень.
— Ну, во-первых, они очертя голову не кинутся в бой, а сначала подумают. А во-вторых, они стыдятся своей трусости. И потому будут держаться там, где другие давно бы побежали.
Шершень нацелил в Жаху прищуренный взгляд: