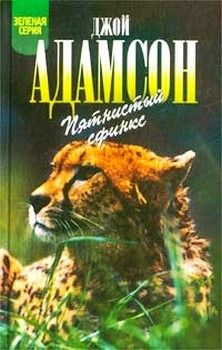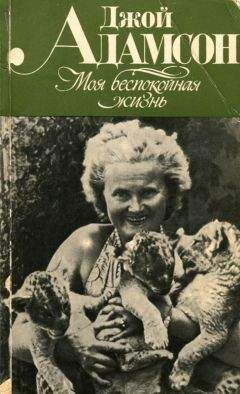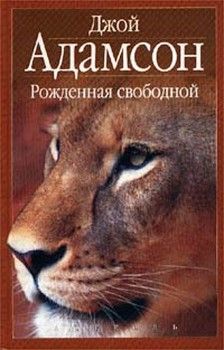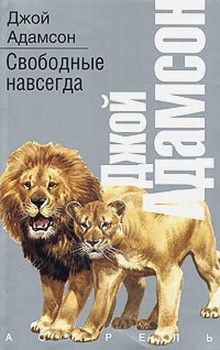Питер Бигл - Соната единорогов
— Начинает на что-то походить, — сказал он как-то под вечер, проиграв на старом кларнете то, что она к этому времени записала. — Какую в точности форму это примет, сказать пока не могу, но какую-то примет определенно. Может быть, мы назовем это «Сонатой единорогов», ты как?
Джой сказала, что ее такое название вполне устраивает.
В магазин повадились захаживать друзья и знакомые Джона Папаса, тихие мужчины и женщины, задерживались они ненадолго, но игру Джой слушали с таким напряженным вниманием, что в ней росло чувство неловкости, нежелание разговаривать, даром, что глаза слушателей расширялись, а на лицах выражался потрясенный восторг. Джон Папас сказал ей впоследствии, что никто из них никогда еще не слышал такой музыки, они просто не знали, что ей потом сказать.
— Ты внушаешь им робость, это ты понимаешь? Эти люди, послушай, они играют на своих Стради, Конах и Безендорферах по всему миру, играют перед королями, королевами и кинозвездами, и боятся, боятся заговорить с Джозефиной Ангелиной Ривера, ученицей неполной средней школы «Риджкрест». Как тебе это, малыш? Так, может, поработаешь еще немного над обращениями, а?
В неподстриженных усах, с волосами, которые уже много дней не расчесывались, он выглядел так, словно его распирала гордость.
Индиго появлялся в то лето дважды. Каждый раз он приносил с собой серебристо-синий рог и каждый раз, грациозно облокотясь о прилавок, подносил рог к губам и приводил в затхлый магазинчик музыку Шейры, играя и Древнейших и крияку, пока даже паутина в углах, до которой Джой никак не удавалось достать, не начинала искриться в лунном свете, и Джой не впадала в отчаяние, пытаясь воспроизвести его музыку на фортепиано. И каждый раз Джон Папас предлагал Индиго все больше невесть где раздобываемого им золота, — не только монеты, но и украшения, даже статуэтки, — и каждый раз Индиго надменно заявлял, что этого мало, хотя Джой ощущала в себе, в самой своей глубине, там, где хранила смех ручейной яллы, его колебания.
Однажды, когда Джон Папас отошел ненадолго и не мог услышать ее, она требовательно спросила:
— Ты же не хочешь его продавать, правда? Ты просто притворяешься, потому что знаешь — рано или поздно тебя потянет домой. Так зачем же валять дурака?
Индиго ответил ей почти с изумлением:
— Твое-то какое дело, Внемирница? Шейра не дом тебе и народ ее — не твой народ, чтобы ты там ни воображала. Так какое же тебе дело?
— Просто там у меня больше друзей, чем здесь, — резко сказала Джой. — Вот и получается, что Шейра — мой дом, вроде как.
Индиго, покачав прекрасной головой, с горечью улыбнулся ей.
— Ну, тогда и этот твой мир стал бы моим домом, но он им не стал и никогда не станет. А Шейра так и останется моим домом, даже когда я покину ее навсегда. Пусть так, и все же я хочу поселиться здесь. Когда получу настоящую плату за то, что отдаю.
Воскресная ночь перед самым началом занятий в школе была и последней перед рождением новой луны. Джой подумала было, не навестить ли ей Абуэлиту в другой раз, однако установившаяся традиция значила для бабушки слишком много.
— Это все, что у меня нынче осталось, Фина, — однажды сказала она Джой. — Люди моего возраста, niños, все ушли, друзья ушли да и тело мое тоже понемногу уходит, — что мне еще остается, как не любоваться на тебя? Не сохранись у меня глупых старушечьих привычек, я бы уже и не помнила кто я и что я, ты понимаешь?
Джой точно распланировала день. Луна взойдет под самый вечер: если удастся поймать нужный автобус, она попадет домой задолго до обеда. Хотя в семье ее ни разу еще не хватились, да никто и не знал, как далеко от них она забредает, Джой, дивясь сама на себя, обнаружила, что в дни, когда она собирается перейти Границу, родные становятся особенно дороги ей.
Она приготовила все заранее, — в те дни она уже точно знала, что следует уложить в рюкзачок, отправляясь в Шейру, — Джой не забыла даже книжку с картинками, которую собиралась показать ручейной ялле, и представления не имевшей что это за штука такая. Покончив с приготовлениями, она поехала в «Серебристые сосны». Абуэлита поджидала ее на скамеечке у входа.
— Что у тебя с волосами? — спросила Джой. — Откуда столько седины? Раньше волосы белыми не были.
Абуэлита рассмеялась, захлопала себя руками по бокам, смуглая кожа ее почти порозовела.
— Я просто перестала краситься, Фина. Я красила их — ну, не знаю, годы и годы. Рикардо они нравились черными. А теперь, чего с ними возиться? Рикардо меня и такой примет.
Она обняла Джой, потом, еще продолжая смеяться, подержала ее перед собой на расстоянии вытянутой руки.
— Неужели ты ничего не знала, нет, правда? Как я люблю тебя, Фина.
Они уже обошли маленький парк по кругу, когда Абуэлита свободной левой рукой сняла с запястья правой золотой, инкрустированный слоновой костью браслет, и прежде чем Джой поняла, что происходит, ловко защелкнула его на руке внучки.
— Подтяни его чуть выше, девочка. У тебя такие худые руки.
Джой застыла на месте.
— Ты что это делаешь? — выдавила она, от ужаса перейдя на английский. — Возьми его обратно, Абуэлита, он слишком дорогой. Такие вещи нельзя давать девочкам.
Она попыталась подцепить пальцем тонкую старинную защелку и снять браслет.
Абуэлита положила свою руку поверх ее.
— Фина, он всегда принадлежал тебе, с самого рождения. Я хочу увидеть, как ты носишь его, сейчас, а не с небес. Небеса далеки, а глаза у меня уже не те, — глаза Джой тут же наполнились слезами и старуха пожурила ее. — Слушай, ты только не начинай вести себя как твой брат. Это всего лишь браслет, всего только бабушка, всего только жизнь. Не хуже, не лучше, я тебе уже говорила — только жизнь, и этого довольно для всякого.
— А мне и подарить тебе нечего, — Джой шмыгнула носом.
Абуэлита смерила ее нежно презрительным взглядом.
— Даже когда такие слова произносит маленькая девочка, они все равно остаются настолько глупыми, что не стоит тратить время на разговор о них. Дорог не подарок, дорога его причина. Какую-нибудь дорогую вещицу может подарить всякий, но никто больше не подарит мне Фину. С дня твоего рождения — о чем мне еще оставалось просить?
Внезапно она замерла, застыла, прижав к уху сложенную чашей ладонь.
— Что это? Что я слышу?
Джой, не смея сказать ни слова, затаила дыхание. Далекая, призрачная, но слышная так же ясно, как удары ее сердца, музыка пронеслась над двумя автострадами, насмешливая и любящая, каждой каденцией счастливо противоречащая самой себе: вечная, смехотворно обольстительная. И Абуэлита слышала ее. Джой признала бы отражение музыки Шейры на лице бабушки, даже если б сама вдруг стала глухой, как пень.