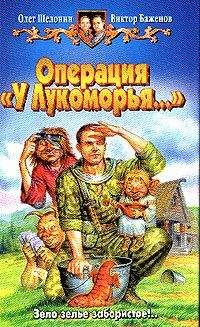Андрей Аливердиев - У Лукоморья
— Ты решил вырядиться клоуном, — спросила Иванка, едва меня завидев. Она не любила, когда люди надевали чужие формы и знаки отличия. Особенно, когда это были знаки отличия ее Родины.
— Если бойца народной армии Югославии считать клоуном, то да, подколол ее я.
— Но ведь ты им не был, ты был…
— Штандартенфюрером, — закончил я. — Ты бы хотела видеть меня в эсэсовском мундире?
— Той роже, что у тебя сейчас, он бы не пошел.
— А тебе не нравится моя рожа? — я перешел на «южнорусский»[38] акцент.
— Нет, почему же, очень хорошая рожа, — встряла в разговор Яна.
Иванка и я рассмеялись. Яна была в недоумении.
— Ты знаешь, кто это, — спросила ее Иванка.
— Может быть адмирал Крузенштерн? — не знаю с чего пропародировала она кота Матроскина.[39]
— Нет, это — твой Видар. Только в той инкарнации, когда он был сербским богатырем (богатырем было громко сказано, но я подчеркнуто напряг мышцы), и, кстати, ко мне сватался. Вот только одет как черт знает что.
— Вот как? — Яна действительно была удивлена. — И не вышла за такого милашку?
— Она забыла сказать, что я был старше ее отца, у меня практически отсутствовал левый глаз, да и руки-ноги срослись не совсем правильно…
— В общем, картина жалкая, — подытожила Яна.
— Но он все равно был мне мил, и я обещала подумать до осени.
— А потом?
— Это был 1389 год, — сказал я, но это Яне ничего не говорило.
— 15 июня, на Видодан, была Косова битва, — отрешенным голосом продолжила Иванка. — На ней погибли и Милош, и мой отец, и мои братья. И я не на много их пережила… В общем, не будем о грустном.
— Я сожалею, я не знала, — проговорила Яна, — не надо было говорить.
— Ладно, это дело прошлое, — успокоил ее я, — А сейчас надо праздновать Победу. Мы еще победим, — я поднял сжатый кулак.
Последние слова я произнес на редкость серьезно, но это вряд ли было замечено. Тем более, Иванка вдруг спросила:
— А кто такой адмирал Крузенштерн?
Она выросла не в России и не знала троих из Простоквашено. Разумеется, мы с Яной попробовали восстановить этот пробел. И как-то незаметно мы погрузились в разглагольствования по поводу русской литературы. Особенно поэзии. Конечно же, Яне нравились Ахматова с Цветаевой. Я же особо не разделял ее восторгов. Скажем, стихи Гумилева мне импонировали больше.
— Это тот, что муж Ахматовой? — спросила Яна. В голосе звучала подколка.
— Нет, это Ахматова — его жена. А ты вообще его читала?
— Ну…
— Тогда очень советую прочесть. У него есть много хороших вещей. «Жираф», «Ягуар»…
— В общем, зоопарк.
— И он тоже, — мне вдруг захотелось изменить, или хотя бы скорректировать тему разговора. — Я, например, придерживаюсь классических взглядов. И Пушкин, Лермонтов, Некрасов мне нравятся больше поэтов серебряного века. Особенно Лермонтов. Его я могу цитировать много.
Я действительно часто поражал своих друзей цитированием неимоверных по размерам отрывков из запомненной в далеком детстве классики. Вот и сейчас вдохновение вновь понесло меня.
— Знаете, его стихотворение «Баллада»? — и, не дожидаясь ответа, я начал цитировать.
В избушке позднею порою
Славянка юная сидит.
Вдали багровою зарею
На небе зарево горит.
И люльку детскую качая
Поет славянка молодая:
«Не плачь, не плачь,
Иль сердцем чуешь,
Дитя, ты близкую беду.
О больно рано ты тоскуешь.
Я от тебя не отойду.
Скорее мужа я утрачу.
Не плачь, детя, и я заплачу.
Отец твой стал за честь и Бога
В ряду бойцов против татар.
Кровавый след — его дорога,
Его булат блестит как жар.
Вон видишь, зарево краснеет.
То битва семя Смерти сеет.
Как рада я, что ты не в силах
Понять опасности своей.
Не плачут дети на могилах
Им чужд и стыд и страх цепей.
Их жребий зависти достоин».
Вдруг стук, и в двери входит воин.
Брада в крови, избиты латы.
«Свершилось!» — восклицает он,
«Свершилось. Торжествуй, проклятый!
Наш милый край порабощен.
Татар мечи не удержали.
Орда взяла, и наши пали».
И он упал и умирает
Кровавой смертию бойца.
Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца.
«Смотри, как умирают люди,
И мстить учись у женской груди».
Пораженные столь долгим цитированием, Яна с Иванкой просто онемели.
— Кто там, что сказал про женские груди, — откуда-то из-за спины появился вездесущий[40] Соловей.
Но даже он не смог сбить патриотического настроя, захватившего теперь Иванку.
— Кад jе сjутра jутро освануло,[41] — начала она,
Долетjеши два врана гаврана
Од Косова пола широкога,
И падоше на биjелу кулу.
Баш на кулу славнога Лазара.
— Jедан гракhе, други проговара, — продолжил я цитировать сербский эпос о Косовой битве,
«Да л' jе кула славног кнез-Лазара?
Ил' у кули нигдjе нико нема?
То из кулы нико не чуjаше.
Веh то чула царица Милица».
Я посмотрел на Иванку. В ее сегодняшнем воплощении она тоже звалась Милицей.[42] Сквозь деланное спокойствие, проступило то внутреннее содрогание, которое испытывает человек, когда слышит близкую сердцу историю о своем тезке, помимо воли транслируя ее на себя. Я продолжил:
Па излази пред биjелу кулу.
Она пита два врана гаврана:
«О Бога вам два врана гаврана,
Откуда сте jутрое прилетjели?
Видjесте ли двиjе силни воjска?
Jесу ли се воjске удариле?
Чjа ли jе воjска задобила?»
Иванка перехватила у меня эстафету:
Ал' говоре два врана гаврана:
«О Бога нам царице Милице,
Ми смо jутрое од Косова равна.
Видjели смо двиjе силни воjске.
Воjске су се jуче удариле,
Оба су цара погибнула;
Од турака нешто и остало,
А од срба што jе и остало
Све ранено и искравлено».[43]
На сей раз цитирование побило все рекорды. И если учесть, что сербский язык из присутствовавших знали только я и Иванка (причем я — с грехом пополам), то можно представить состояние остальных составляющих нашей маленькой компании, которая, кстати, за это время успела пополнится еще одним человеком — Добрыней.