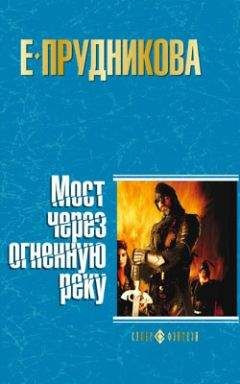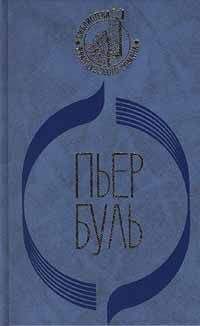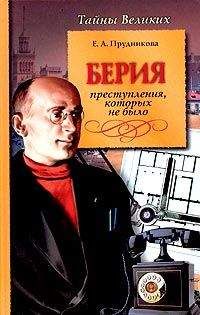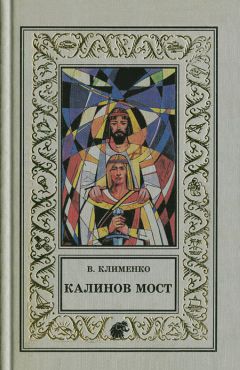Мост через огненную реку - Прудникова Елена Анатольевна
– Мы здесь с тобою, милая, случайно под вечер оказалися вдвоем… – подхватил Энтони. Уж он-то, как и любой уроженец Трогармарка, песенку эту знал с малолетства.
От Аркенайна горный хребет отклонялся к северу, а Сана забирала к югу. Отсюда начинался степной язык, прорезанный множеством стекающих с Аккад и впадающих в Сану речек – без малого двести миль великолепных пастбищ, смыкающихся на востоке с необозримой Аккадской степью. Здесь жили пограничники, здесь ходили их табуны, снабжавшие конями почти весь Трогармарк. Дорога, уйдя от реки, шла вдоль гор – сорок миль до взбирающегося на перевал ольвийского тракта.
Закончился, наконец, бесконечный марш вдоль Аккад. Оставив позади небольшое пограничное ущелье, армия вступила на густо населенную территорию Трира и тут же остановилась на дневку, разместив части в маленьких городках и деревнях.
Дневка должна была стать показательным представлением в духе Энтони Бейсингема. Армия, одичавшая от долгого марша по безлюдным предгорьям, попадала в населенные места, где были трактиры, женщины и множество других соблазнов. Трир не считался завоеванной территорией, с его жителями следовало обращаться как со своими – но сейчас и своим пришлось бы несладко. Первый же вечер в обжитой местности, несмотря на строжайший приказ, все равно будет отмечен множеством бесчинств, на следующий день виновных примерно накажут, и после этого армию можно считать приведенной в чувство.
Балийские генералы, обожавшие Бейсингема, решили последовать его примеру и совершить точно такой же акт вразумления собственной армии. Гален фыркнул, как кот, заявил, что его касаются лишь военные дела, а взаимоотношения армии и мирного населения всецело на совести балийских командиров, и велел подать вина.
– Вино здесь скверное, – удержал его от опрометчивого шага Энтони. – Зато пиво, говорят, хорошее.
Штабы обеих армий ночевали в одном городке, командующие разместились в одном трактире и полночи, прихлебывая из глиняных кружек темное пиво, которым славились эти места, обсуждали тонкости поддержания дисциплины.
– Все настолько по-разному, Тони… – Гален, добавивший к пиву еще и изрядную дозу тайтари, слегка запинался, зато был благодушен и разговорчив. – Потому я в эти дела без крайней необходимости и не лезу… В Аркенберге за мародерство вешают на месте, а за пререкания с командиром нижний чин всего лишь получает по физиономии – и попробуй разбери, почему. Зато у тайцев с местным населением можно делать все что угодно, а если тебя угораздит… да что там, если командиру просто покажется, что ты на него косо взглянул, обдерут спину плетью до костей. И порют там всех, даже генералов. Мне Овертон несколько раз напомнил, чтобы я не забыл заранее обговорить, что телесные наказания на меня не распространяются. Но шахскому брату, я видел, раза два очень хотелось, просто очень…
– Всего два? – поднял брови Энтони. – Тогда он на редкость терпелив, этот самый брат. Был бы ты нижним чином, тебя бы каждый месяц пороли.
– Обижаешь… – Гален искоса взглянул на него и слегка покачнулся. – Самое меньшее, вдвое чаще. У тайцев я бы не выжил. А в Ваграу плетка была не в чести, приложат раз десять – двадцать, да без особого умения, на следующий день как новенький. Я под плетью песни пел – цыганские, таборные…
– Погоди… Каким образом?! – Бейсингем даже протрезвел слегка.
– Обыкновенным. Дворянство я получил в семнадцать лет, вместе с отцовским именем и офицерским чином. А до тех пор очень даже подлежал, а уж при моем-то характере… Не одно, так другое, не драка, так лейтенантика какого-нибудь пошлю подальше. Только потому, что был сыном генерала, так легко все с рук и сходило. Однажды только не сошло. Мы тогда в лагерях были, и к отцу приехал его друг, тоже генерал. И как-то он со мной очень уж высокомерно обошелся, да еще при всех. На что я был привычен к генеральской спеси, но тут и меня задело за живое. И вот я дождался, когда они с отцом оба уснули – а выпили они в честь встречи крепко, – стащил у гостя мундир, саблю и сапоги, и повесил на дуб. У нас здоровенный такой дуб стоял посреди лагеря, и вот пристроил я все это на самую верхушку…
– Погоди! Так это был ты? – Энтони прыснул, подавился пивом и надолго закашлялся. История с ординарцем, который затащил на дерево экипировку оскорбившего его генерала, кочевала из одной армии в другую. В одних вариантах это был всего лишь мундир, в других дело дошло чуть ли не до подштанников, и голый генерал прыгал под деревом, требуя наказать виновного. – Подумать только, с каким человеком за одним столом сижу!
– Я и сам был собой доволен… до утра. Потом я, по правде сказать, о своем подвиге здорово пожалел. Никогда не думал, что отец может так рассвирепеть. Засекли меня тогда до беспамятства, отлеживался потом две недели, до сих пор еще следы остались. Тот генерал под конец экзекуции даже заступаться за меня стал. «Хватит, убьешь мальчишку!» – говорит. А отец ему: «Либо убью, либо переломлю». Так и не сбавил…
– Но ведь и не переломил, – засмеялся Энтони.
– Переломил. За что я ему, пока жив, благодарен буду. Я тогда с пехотинцами дружбу водил. Пехота у нас набиралась по городам, из всякого отребья, видел бы ты эти каторжные рожи. А мне всего шестнадцать было, я на них смотрел как на богов. Представляешь, что бы из меня получилось с такими воспитателями?
Энтони честно попытался представить и не смог, лишь плечами передернул.
– Я вот тоже, как подумаю, так вздрагиваю. Но отца я знал, он от своих слов не отступался, так что пришлось покориться. Зато потом, когда я лейтенантом стал, он мне этих же парней в подчинение дал, это был мой первый взвод.
– Ого! – уважительно хмыкнул Энтони. – Ну и как, справился?
Гален взглянул искоса, старательно изображая обиду, но не выдержал роли и широко улыбнулся.
– Ну, сначала-то пришлось кулаки ободрать. А потом ничего, объездил… Так что, милорд, моя шкура дубленая, не то, что твоя.
– Обижаешь… – в тон ему ответил Энтони. – Я, между прочим, могу назвать своих предков до тридцать шестого колена – и все военные, так что прерывать традицию было некому.
– Какую традицию? – не понял Гален.
– Кто жалеет розгу, тот портит ребенка. Поэтому я, как любой отпрыск Бейсингемов мужского пола, попробовал первые розги шести лет от роду, а последние получил за день до первого чина. Валентин, средний наш брат, был шкодлив невероятно, так отец его однажды выпорол, уже когда он корнетом был…
Брови Галена удивленно взметнулись:
– Это как?
– А вот так! Приказал: «Ложись, а то слуг позову!» – дело было в замке, не в армии. Не знаю, что Валентин тогда учудил, он не рассказывал, но вообще-то братец мой был юношей, на многое способным… Так что всыпал ему отец полсотни розог собственноручно, и на чин не посмотрел. А рука у него была тяжелая…
По лицу Энтони скользнула тень, он замолчал, надолго припав к кружке. Но и Теодор не спешил с ответом. Наконец, поднял голову и усмехнулся:
– Наши отцы были суровее нас. Может быть, и вправду род человеческий вырождается. Не могу представить себе, чтобы ты собственноручно кого-то порол, даже собственного сына, и вырастет он у тебя шалопаем…
– Ну-ну… – лукаво посмотрел на него Энтони. – Не можешь представить… Ничего, завтра разочаруешься. Если мне все верно доложили, познакомишься с одним милым обычаем трогарской армии – кстати, ввел его мой прадед, Леопольд Бейсингем. Как ни странно, обычай сей популярен и принимается нижними чинами, я бы сказал, даже с воодушевлением.
– Какой обычай? – вскинулся Гален. – Опять хочешь меня удивить?
«Можно подумать, это так трудно!» – фыркнул про себя Бейсингем, но сдержался и продолжил все так же невозмутимо:
– Видишь ли, национальный характер – вещь довольно своеобразная. Взять мойзельцев – они так чертей боятся, что на собственных пастбищах не показываются. А трогарцам все нипочем, их не то что чертями, а и самим Хозяином не напугаешь. Но у нас есть свои особенности. В трогарской армии тяжелые наказания не приняты…