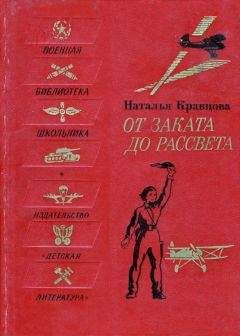От заката до рассвета (СИ) - Артемов Александр Александрович
— Да какой энтовой собачьей матери мне ее жалеть, проклятую?! Была бы моя воля, в мешок ее и в омут. Пущай там с рыбами побрехается!
— Вооот, — поднялся в потолок довольный палец. — А говоришь, пан, злая она. А злая она не с души ее бедной, а со злобы твоей, что ты ей роздыху не даешь, а все бьешь ее, как тебе палка к руке подвернется.
— Стой, это к чему это ты разговор ведешь? Выходит это я что ли злой?!
— Неет, пан, не ты. Вернее, ты конечно злой, но не потому что у тебя душа такая черствая, вернее не только. Это почему у тебя душа черствая? А потому что жинка твоя, Смокулька, женщина чересчур нраву крутого, и знай бранит да пилит тебя почем зря. Вот ты, так сказать, и костенеешь душой.
— Ааа… понял.
— Вот то-то и оно, пан, вот тут эта собака-то зарыта! Нет в мире злых людей. А есть несчастные, бедненькие, обиженные да униженные.
— Эх, все бабы эти! Нет спасу от них…
— Неет, пан, не понял ты меня. Вот кого хошь спроси — каждый тебе расскажет, как с ним несправедливо поступили, как обманули, как, когда он хоти ласки да обхождения хорошего, только в морду получает. Так и Боюн этот — обиженная, жалкая душонка! Его бы дивчина какая полюбила, а он, небось, страшный, как сам Сеншес, вот и не полюбит ево ни одна живая душа, оттудава и злоба ево, и злодейства ево. Я так считаю, хоть ешь меня, а считаю!
Казаки согласно покивали на такое его премудрое суждение.
— А хорошо ты это, пан Чубец, сказанул, — погрозил ему пальцем Повлюк, которого очень забавляло это рассуждение. — Положительно хорошо!
— Выдумщик ты, пан, вот шо я тебе скажу, — ворвался в спор Рогожа. — Ты еще скажи, чтобы мы пожалели мерзавца этого! Слышал аль нет, что с дочуркую Щуба злодей Баюн сотворил?!
— Мы про то злодейство слыхивали. Да и не Баюн то сотворил, а подручный его, негодяй Коляда, который до баб охоч вне всякой меры.
— Ты не бреши с пьяных глаз! Раз в банде баюнской этот Коляда состоит, то и Баюн за то в ответе!
— Но, ты мне рот не затыкай, дорогой наш пан Рогожа! Без тебя ведаем, что в мире творится, и никто Баюна тут не оправдывает. Зла они оба много сотворили, по ним обоим веревка плачет. Но согласись, что и дочурка Щуба доброй душой не была — а грешная она, черная душонка, вот и расплатилась она через этого Коляду за всю свою неправедную жизню.
— Она душа пусть и грешная, но явственно пострадавшая! А Баюн злодей, по которому только виселица плачет!
— Душа-то грешная, но правда в том, что она б…дь была, какой поискать, и ты сам, пан Рогожа, и Щуб об том знаете, какие за ней штуки водились! Не удивлюсь я, ежели она сама перед ним подол подняла…
Перебранка точно бы закончилась потасовкой, но ее остановил пудовый кулак Кречета, вдаривший по столешнице:
— А но, чего разорались, охальники?! — взревел он, вскакивая из-за стола. — Как бабы на базаре, ей богу. Стыдно, панове! Стыдно!
— Неча меня перед пришлыми стыдить, Кречет, не малой уже!
— Вам бы, дорогие мои друзья, уважая ваши седины, прогуляться бы, а то, гляжу я, горилка знатно вдарила вам в черепушки.
— Эти пусть выходят! — рявкнул Рогожа на мирно сидящих Каурая и Игриша. Мальчик, после того, как вошел в шинку, вообще не произнес ни единого словечка. — Чужаки у тебя за столом пьют, а ты родного кума выгоняешь!
— Этим не можно, — покачал усами Кречет. — Под арестом оне, сам знаешь
— Ты-то про себя ничего рассказать не хочешь? — махнул Рогожа рукой на Кречета и набросился на пришельцев. — Где глаз потерял, болезный?
— В бою, — отозвался Каурай, показательно игнорируя бегающий взгляд Рогожи. — В настоящем. Не в кабацкой драке, отнюдь.
— Ишь ты… — зарделся тот и уже собрался броситься на одноглазого с кулаками, как сзади его осадили нагайкой.
— А ну, чего разорался?! — гаркнула на него шинкарка — дородная баба в широком, размашистом переднике и чепце. — Говорит тебе Кречет — на воздух! На воздух, продышаться, пьяной морде!
— Ты чего это, Малашка, ополоумела совсем? — взвизгнул Рогожа, защищаясь руками от очередного удара. — Это моя нагайка, положи где взяла, стерва!
— Я тебе дам стерву! — шлепнула она его по плечам третий раз. — Ты за прошлый раз не расплатился? Нет, вот и не видать тебе нагайки, пока долг не закроешь, пьяный дурень.
— Скверная баба, скверная! — потрясал кулаками Рогожа, под свист и общий гогот отступая к выходу из шинки, где его уже подстерегала притолока. Хватив об нее затылком, пан Рогожа вылетел прямо в объятья Волчары, который встретил того заливистым лаем. Поднявшийся вал проклятий затих за хлопнувшей дверью, и вновь Ранко ударил по струнам, разорвав напряжение в клочья. Во все углы полилась музыка.
— Эй, Горюн! — позвал Кречет кузнеца, который сидел у окна и покуривал люльку. — Ты там куды своего Бесенка девал? Горюн!
— Да в конюшне он, запертый сидит, — ответил кузнец, попыхивая дымком вокруг себя.
— Ты б его подкормил чутка, а то он глядишь, подохнет у тебя, не довезешь, — посоветовал ему Повлюк. — А то он, гляди, несколько дней не жрамши — факт!
— Сам знаю, что как мне с учениками обходиться, советчики не нужны!
— Не дело это, Горюн, мальчишку как скотинку связывать! Пусть он и виноват.
— Немного поголодать ему всяко не повредит, — раздался еще один пьяный голос. — И всыпать ему по первое число!
— Всыпать-то всыпали уже, но пока я тут голова, мальчишка там впроголодь куковать не будет, — решительно сказал Кречет. — Выпороть его хорошенько — это дело, а голодом морить не можно.
— Ну, раз он тебе так дорог, черт этот, так сам его и потчевай, — ответил Горюн, упорно не двигаясь с места. Кречет сверкнул на него острыми глазами и медленно поднялся с места, но не сделал и шага, чтобы осадить зарвавшегося казака.
— Ты ему, глядишь, и вовсе шею свернешь, дурак, не удержишься… — прошипел Кречет. — Потом погутарим. Малашка! — кликнул он шинкарку, — налей еще миску щей да стакан квасу, и отнеси в конюшню, мальчишка там на привязи сидит как собака, тьфу.
— Дел невпроворот у меня, Кречет, выкормышей ваших по конюшням кормить! — отозвалась Малашка, гремя плошками. — Я и так тут с тремя девицами с вашей ватагой расправиться не могу. А вдруг он чухной, аль бесноватый какой, что вы его в конюшне заперли? Вон другой мальчишка ваш, который уже вторую тарелку уплетает, поди, засиделся на лавке-то! Пусть отнесет, растрясется, я ему, так и быть, налью чутка.
Игриш мигом осознал, что шинкарка говорит именно про него, и охотно поднялся — сидеть тут и слушать бесконечное бахвальство и препирательство подвыпивших казаков ему было совсем тяжко, и он был рад хотя бы ненадолго выбраться из прокуренной шинки. Получив миску, до краев наполненную остывшими щами, и кружку кваса, Игриш с ложкой в зубах осторожно принялся обходить ряды выпивающих мужичков, уворачиваться от их рук, коими они в порыве внезапно нахлынувшего красноречия размахивали так и эдак, подлезать под столы да перепрыгивать через лавки, которые вновь так и эдак попадались на пути. Так Игриш успешно достиг черного хода и, двинув дверь ногой, выбрался на свежий воздух.
Улица встретила его заливистой стрекотней да непроглядной, душистой теменью. Тучное небо разошлось перед ним, когда Игриш прикрыл за собой дверку шинки и зашагал к деревянному строению, откуда несло навозом и раздавалось приглушенное лошадиное ржание. Он не проделал и половины пути, как его окликнули:
— Стой, кто таков? — появился светящийся огонек из темноты. — Конюшню заперли до утра, приказ пана головы.
— Это я, Игриш… — отозвался мальчик. — Этому… Бесенку поесть принес.
С колоды поднялась долговязая фигура с трубочкой в зубах. Чиркнули спичкой.
— Ах, это ж ты тот парнишка с лошадками, который нас купаться в речку Смородинку водил?
— Ага, — кивнул Игриш, жмурясь от яркого света.
— Наваристые! — чмокнул губами сторож, глянув в тарелку со щами. — Голова знает?
— Еще бы.
— Хорошо, пущу я тебя, Гришек, но не серчай — дверку придется прикрыть, пока он там не закончит. Будешь выходить, стукни три раза — я и отопру.