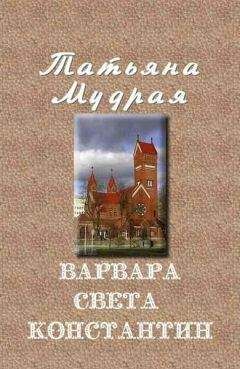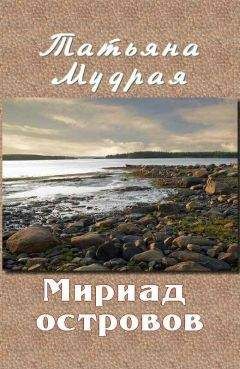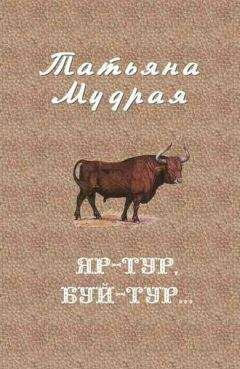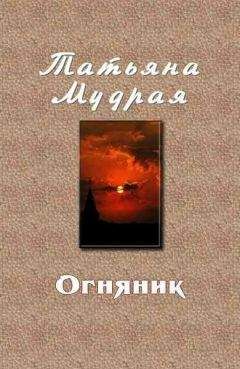Татьяна Мудрая - Сказание о руках Бога
— Как здесь удивительно, — говорила Ксанта. — Вода точно прозрачное стекло, золотой песок и камушки отсвечивают и бросают искры, а рыбы стоят неподвижно чуть ли не у самой поверхности. И в самой роще птицы свернулись на ветвях, застыли: не вьют гнезд и не поют песен. Как в ясный, жаркий полдень, когда жизнь замирает от своего совершенства и полноты.
— Значит, нужно что-то для того, чтобы всколыхнуть эту зрелость, — заключил Уарка. — Строго говоря, от тебя всегда требуется одно и то же.
— Разумеется. На мне осталось так мало покрышек, что я за тебя побаиваюсь. Как бы тебе от моего сияния не потерять сознания. Ты ведь, в отличие от малыша Акелы, зрячий.
— Смотря на что, Ксантушка. Лица до сих пор не вижу, а вот волос у тебя стал долгий. Ты быстро меняешься, верно?
Женщина, не отвечая, распахнула желтое покрывало, как парус. Парус породил ветер, ветер подхватил полотнище, поставил на угол, как яхту, оно вырвалось из рук и заскользило по озеру наискосок. Проснулись, всколыхнулись воды, рыбы пошли бороздить морскую ткань, то уходя в глубину, то снова замирая у поверхности — однако плавники шевелились и слегка раздувались в ритме дыхания бока. Птицы встрепенулись, и запели в честь ясного дня, и полетели за кормом и за прутьями, травинками и глиной для гнезд, а выше всех взлетел жаворонок, отпечатавши свой силуэт на солнечном диске. Поплыли по морской шири разноцветные острова, смутно похожие на зверей: Медведь пил воду, сгорбившись, Лев приподнял гривастую голову с лап, неслышно трубил Лебедь, раскинув гигантские крылья и вытянув шею, Левиафан выставил пестрый гребень из пучины, и свернулся в кольцо коралловый Змей — атолл, запирающий собой круглую лужицу пресной воды.
— Весна света! Весна моря! Весна морских странствий! — пел вверху и по всем сторонам света хор небесных и земных голосов.
А женщина стояла в рыже-огненном шелке поверх развевающихся волос и тихо смеялась.
Касыда о влюбленном караванщике. Ночь пятая
«Далее путники шли по такой же гладкой и торной, как и прежде, однако куда более извилистой дороге. Бортовой камень был неровный, дикий; вместо крашенных поперечными белыми полосками столбиков над обрывами, топями и другими неприятными местами высокую насыпь окаймляли валуны, бледно-серые и угольно-черные вперемежку. «Камень белый — камень черный, много выпил я вина», озорно пелось в душе Камиля под вольный степной ветер, что наносил запахи полыни и бессмертника, меда и большой воды. Великая Река вольно несла свои воды. Одним берегом повторяя изгибы дороги, она потеряла другой, оставила в необозримой дали. Здесь начиналось царство камышей, империя лилий, белых, желтых и цвета огня, княжество розоватых лотосов. Цветы подступали к самой насыпи, но не могли взобраться на сухую, крепкую гальку и уступали место цветущей и плодоносящей колючке. Варда, а за нею и люди передвигались от одной стороны шоссе к другой зигзагом — набивали животы пресноватой сладостью черной ягоды, слепленной из крупиц. Ослы, знатоки чертополоха, поиском пренебрегали, зато усердно тыкались носами в кулак или горсть того, кто собирал ягоду вручную.
— Твою любимую землянику ты тоже здесь найдешь, Арфист, — весело говорил Древесный Мастер. — А чуть подальше, на горных склонах, — виноград. Сок у него золотистый и сладкий, как сикера; он не так уж хорош для вина, весь хмель в нем — не от бродила, а от солнца.
— Здесь, должно быть, тепло и тучная земля, если растет лоза, — ответил Барух.
— Мой город стоит в самом устье, а мы близко к нему. В дельте оседают весь ил и вся грязь, которую несет река. Удивительная штука: дай им перегореть и переверни — получишь доброе. А поселение я спроектировал без особых вычур. В Венеции бывал? Там то же самое, только в тысячу раз красивее. У нас Река вовсю архитектурой распоряжается: паводки каждую весну.
— Паводки? — переспросил Камиль.
— Это когда от тающих снегов и дождей воды в притоках и самой Реке становится так много, что она сносит дома и мосты.
— Какое расточительство, Камилл! У нас дожди бывают раз в году, и воды никогда не было в достатке. Когда ее много, она становится буйной и непокорной. Вот в Магрибе она разрушила плотину, которая держала ее в хранилище много веков, и ушла навсегда.
— Разве магрибинцы не знали, что нельзя держать воду в плену? И воду, и зверей, и птиц, — добавил Камилл, наблюдая, как зачарованно его брат следит за пролетом огромных бело-розовых фламинго и пеликанов, похожих на ожившие цветы.
На очередном витке дорога отошла от гор и поднялась на опоры, пропуская реку под собой. Теперь уже нигде не было и следа земных насаждений, будто их смыло распростершейся водой; да и самой земли не стало — она слилась с небом. Биккху жадно впивал ноздрями крепкий, влажный ветер, лицо его сделалось мокрым, дерзким и совcем юным.
— Солью пахнет. Я однажды был у моря, в мангровых зарослях, но там вода тяжелей и пахнет тухлым. Люди не хотели там жить — боялись гнилой лихорадки, — сказал он. — А здесь дух чистый. Барух, ты долго жил в Венедиксе?
— Пока не прознали, что я иудей. Пришлось переехать в Россию, в Санкт-Петербург. Я читал, что он тоже весь в каналах, а оказалось, что хоть это и правда, но там почти нет воды. Пресную заперли и пустили по узким протокам, под узкими мостиками и между гранитных парапетов, а соленую морскую отяжелили тюремной крепостью. Поэтому вода там все время бунтует и затопляет город. Я пробыл в нем до первого в том веке наводнения. Чуть не потонул. Хотя, строго говоря, бесповоротно умереть не мог — хоронить было некому. Ни друзей, ни близких. Жаль.
— Зачем же тебе умирать в в чужих людях? — удивился Камилл. — Вернись на свою землю, укрась ее и возроди, сделай достойной вечности, и тогда вместе приложитесь к народу своему.
— Я ведь уже возвращался, не забывай.
— Да, я знаю. Ты попал в тайник времени, тупик мироздания. Время там застыло, убито. И это не мое… не истинное время. Оно конец всего, который предсказан, все витки истории собираются в нем, сколько бы спектаклей ни сыграла она с нами, сколько бы наших одежд и своих декораций ни сменила.
— Удивительные и мало правдоподобные вещи говоришь ты, Мастер. Моя память чувствует, что это так и есть, что многое повторяется, но не может ни вместить, ни выразить…
— Я тоже не могу выразить в ваших понятиях — вон Биккху воспринял это как идею перевоплощения, греки — повторения. Но натолкнуть на мысль, способствовать пониманию — это я в силах.
— …Ибо память моя о странствиях то возгорается, то погасает; из нее выпали целые страницы. Иногда мне кажется, что я — вся иудейская история и Бог пишет ее, выбрасывая случайное и спрямляя лишние петли, рисуя спираль. Кругами идет наша летопись: от Завета и послушания до предательства и гибели. Сама порождает свой конец — это и есть Суд, Мастер? — который влечет за собой, снова и снова, — безрадостное начало. Стать стрелой, что устремится вовне…