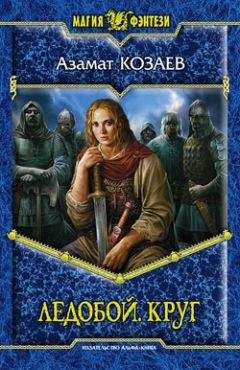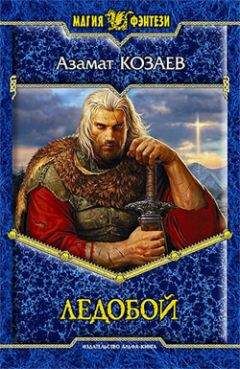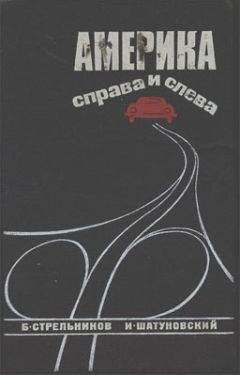Ледобой. Зов (СИ) - Козаев Азамат Владимирович
— Отдал. И долги простил. Только что вести принесли.
— А я к войне готовился, — Отвада облегчённо выдохнул, заметно расслабился — аж плечи приопустил — но выгнать из глаз настороженность до конца не получилось, Стюжень это прекрасно увидел.
— Устал ты, князь, — улыбнулся верховный, — самого себя обмануть пытаешься. А не получается. Нутром ведь понимаешь — рано радоваться.
— Всё так, — весомо закивал Чаян. — Что к нашему брату в руки попало и на что поставил печатку «мое», нипочём из зубов не выпустит.
Отвада мерно шагал по думной, разглядывая роспись по стенам. Цельные полубрёвна остались только снаружи, внутренние покои отделали досками да выгладили затиркой до ровного, хоть нитью проверяй. Ты гляди, вот этот цветок в углу только сейчас увидал, а ведь сколько лет ходил мимо! Стебель зеленый, три листка, лепестки красные, вроде ромашки, только не ромашка. Век живи, век учись.
— Никак я вашего брата боярина до печенок не пойму, — князь встал перед тестем, посмотрел прямо в глаза. — Что вы такое? Вроде не первое десятилетие знаю, отчасти даже заняты мы с вами одним делом, а ровно на разных языках говорим.
Старый боярин покачал кудлатой, лобастой головой. Тяжело вздохнул.
— А чего тут понимать? Храни и приумножай свое, чти праотцов, помни добро, не забывай зла.
— Хм, приумножай… Звучит ладно, да складно. Даже красиво. А на деле то, чем вы свои сундуки приумножаете, зачастую не из воздуха берётся, а у другого отнято, — Отвада горько улыбнулся, — ты, дорогой тестюшка, да ещё пара стариков — исключение.
— Есть такие, — убеждённо кивнул Чаян, — твоя правда, но есть и другие.
— И вся беда в том, что тех становится больше, а вас меньше, — Отвада отошёл к окну, выглянул на улицу.
Теплынь, жуки летают, птицы поют, солнце лыбится, и уж так хочется, закрыв глаза, поднять лицо к светилу, как в детстве, и чтобы запекло шкурку, через веки проняло, ровно перед костром встал… да вот беда — лицо бородой заросло, дублёная шкурища морщинами порублена и плохо греется, глаза мохнатыми бровями прикрыты, на лбу чуб лежит. Извини, солнышко, не теперь. Разве что дети мордахи тебе подставят. Рыжик и Светок.
— Сложно всё в этом мире! — Чаян пожал плечами, — Потому и держимся друг друга, локтями подпираемся.
— Это я тебя локтем подпираю, а твои сотоварищи рук и один другому не протянут, и вот честное слово мне иногда кажется, напои заговорённой бражкой вашего брата до беспамятства, выведи в чисто поле, да повели открыть сокровенное, начнете у земли долги требовать за неурожайные годы. Я почти уверен, если пообещать, что всё нажитое сохранится, ладьи всё так же будут бегать с товаром за моря, но людей вокруг заменят на злобожьих выродков — и бровью не поведете. Всё равно вам. Капай золото в сундуки, и хоть трава не расти. А я князь — не боярин! Мне обо всех думать!
— Зол на тебя Косоворот, — мрачно кивнул старый боярин. — И остальные взбешены, боярство звенит, чисто било. Считай, войну начал. Как то оно ещё обернётся?
— Ни один из людей Косоворота не погиб, — жёстко отчеканил Отвада, и поправился, — ни один из тех, что угрожали смертью князю! Своему князю! Пусть благодарит до конца дней, что на дыбу не вздернул, да шкуру не спустил. А за тех двоих, что Безрод угомонил, я виниться не собираюсь! Задумал подлейшее душегубство — хлебай полной чашей, только дух переводить успевай.
— Говорят, не просто человека хотели извести — нечисть. Болтают, мол, злобожье отродье Сивый, и все его чудеса — от тёмного из братьев. Что по зиме твой сваток учудил, знаешь? Оттниры вести принесли. Дескать, морских лиходеев порубил в капусту, глазом не успели моргнуть — полдружины на жарк о е разделал, говорят, ходили потом по настилу, сапоги в крови по щиколотку булькали.
Отвада и Стюжень переглянулись.
— На то он и заставный. Добрые люди пострадали?
— Вроде нет.
— Пусть предъявит злое, тогда поговорим, — отрубил князь.
Стюжень отпер дверь летописницы, ступил в полутёмную горницу, вдохнул полной грудью. Старые свитки пахнут так, что любому ворожцу голову сносит. Здесь даже в жару прохладно, да оно и понятно, с камнем по-другому не бывает. Единственные палаты во всём Сторожище подняты вопреки заветам предков не из тёплого дерева, а из холодного камня, и пусть весь город заполыхает, пусть сгорит дотла, углями раскатится, ни один свиток не должен пострадать. Даже столы и стулья тут стоят не простые, а из морского лежалого дуба, такого крепкого, что, кажется, и не дерево он вовсе, а камень. Старик улыбнулся. Умел бы слушать разговоры вещей, поди, узнал бы, что столы и стулья говорят с тутошними камнями ровно братья: «Ты камень и я камень, ты не горишь вовсе, я горю хуже некуда». Светочи в летописнице только закрытые, огонь ярится за стёклами, в стёкла волоченная нить впаяна, разобьется — осколками не разлетится.
Верховный пристроил светоч на стол, от него запалил ещё парочку, стало светло. Растворил окна. Где же искать? Сивого дрожь бьёт, который уже месяц колотит, приступы учащаются, делаются всё более жуткими и смертоносными. За те две седмицы, что Сивый отсиживался после боярских гостин, узнать ничего не удалось, даже разу лишнего Безрод не чихнул, не то чтобы его колотило и трясло. Будто поняла болячка, что ворожец на неё глядит-таращится, притихла, забралась поглубже. Хотя да… Зимой у Косоворота тряхнуло знатно, поди до сих пор икается дураку толстопузому. Сравнил бы кто-нибудь тогда глаза боярина: до игрищ в леднике — наглые, волчьи, залитые брагой до потери чувства меры, и после — без дна и берегов, в которых буревал ужас такой силы, что криком Косоворотовым только паруса ладейные заправлять, да выстреливать кораблями по морской глади, чисто стрелами из лука. Стюжень довольно хмыкнул — как ни был сам зол всем, что творилось в тот день, в то мгновение, когда Сивый с искомым ножичком встал перед хозяином, улыбнулся против воли. Такими воспоминаниями в стужу греешься, ровно у костра сидишь. Будто раскачали дурака, да в каменную стену запустили, а тот себе нос рассадил, лоб расшиб, сидит обалдевший на земле, в глазах небо и земля хоровод водят. Как всё Косоворот для себя видел и чувствовал? Небось что-то вроде того, а чём рассказывали Взмёт и Шкура после памятных поединков с Безродом, а уж там, бери гусли, да на струны перекладывай: «Я точно высох, сделался тонок и лёгок, чисто тряпка… И мною будто ветер заполоскал, чую — ломает, гнёт аж глаз не успевает, только и слышно, как хлопаешь-стонешь». Стюжень улыбнулся. Косоворот и сам не забудет, и тем не простит, кто запомнит да вслух расскажет. И плевать.
Шерстил по свиткам — ничего похожего. Всякое нашёл — в какие-то времена иной по-волчьи выл, иной пламенем плевался, летописали будто кто-то пророчить начал после удара мечом по голове, один даже вещи двигал, рук не прикладывая… А вон та полка — Безродова. Четыре свитка, один к одному. Как родился в самую студёную ночь в году, как был принят Ледованом, как трудно попасть в ту пещеру на Скалистом. Как в самый знойный полдень лета родился Жарик, а в самую студёную ночь в году, такую же, в какую появился на свет его отец, белый свет увидел и Снежок, и уж так получилось волею судеб — в той же памятной пещере. Про дружину Верны, про всех девятерых, что появились в этом мире из небытия и год сберегали бедняжку для жениха. Про битву на Скалистом, Потусторонье, про охвостье… много про что ещё.
Вот они, стойки по стенам, сложены из тёсаных камней, залитых зодчей смесью, сами полки из морского дуба, слева направо, от начала времён, ко дню сегодняшнему. Старик бросил взгляд налево в самое начало и нахмурился. Свиток хвост выпростал из рядка, ровно безалаберный дружинный вывалился из боевого построения. Подошёл. Что такое? «Жизнеописание Бояна, сделанное во дни его славных побед» лежит криво, ровно перепивший молодчик, да к тому же завалилось на «Отеческие наставления», будто тот же пьянчуга повис на плечах товарища, шагу самостоятельно ступить не может. Когда привыкаешь к безупречному порядку, всякая косорукость по глазам режет, ровно на самом деле песка всыпали. Когда знаешь, что дубовая болванка, на которую свиток накручен, длиною ровно в локоть, и уложенные голова к голове, свитки и пяточками равняются один к одному, невольно головою крутишь вокруг — чья работа?