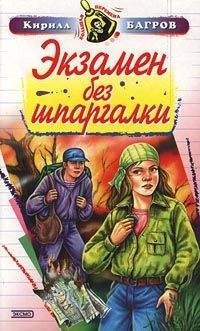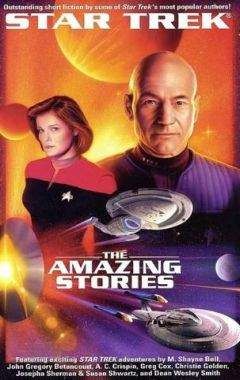Татьяна Апраксина - Назначенье границ
29 мая 1451 года, Орлеан, утро
Гастон смотрел в окно и думал, что Бог вряд ли наказал его за неосторожную ложь — за те торопливые слова о будущем сыне. Не поступает так с людьми Тот, кто отдал Себя на смерть, чтобы они жили. Да и знай Ури, что беременна, она бы действовала точно так же. И потому, что смерть короля обошлась бы им слишком дорого, и потому, что не оставила бы убийцам пятилетнего ребенка, будь он хоть Антихристом. И можно только ругать себя за то, что слишком медленно бежал, слишком медленно думал. Но это позже, потом.
Он услышал за спиной легкий кашель, обернулся, тщательно улыбнулся жене. Взял с подноса невысокую чашку с длинным носиком, проверил, достаточно ли воды, поднес к губам Ури. Это могли делать и слуги, но зачем? Если кровотечение не прекратится — а врачи с утра бледней пациентки — у них осталось не так много времени, здесь. Один из ученых докторов возился со льдом внизу. Ури пила, не просыпаясь. Жизнь просто уходила из нее.
— Его Преосвященство ждет, — шепотом напомнил секретарь.
Гастон на миг прикрыл глаза, поставил чашку на место, кивнул и двинулся к дверям. Уходить не хотелось, тратить драгоценное время было невыносимо, но союз с д`Анже нужен и важен, а возможность показать епископу, насколько его ценят, упускать нельзя.
Только в кабинете он понял, что д`Анже пришел не один. Впрочем, он, наверное, просто не хочет отпускать ди Кастильоне от себя хотя бы в первое время, чудеса чудесами, а Трибунал вряд ли сразу оставит его в покое.
— Ваше Преосвященство, я благодарен вам за внимание и сочувствие, но… сейчас все в руках Божьих и зависит лишь от того, пожелает ли Он сотворить чудо.
При слове «чудо» Пьетро захотелось улыбнуться. Даже сквозь запах крови, снадобий, духоту закрытых окон — ну почему аурелианские лекаря так дешево ценят свежий воздух? — через темное марево предчувствия скорой смерти. Улыбаться было нельзя. Только очень, очень вежливо.
— Пожелает, я надеюсь, — Пьетро перекрестился и добавил: — Только чудо вас удивит…
Он поймет почему, потом — поймет.
Отсюда было не так уж далеко до Королевской улицы, где стоял особняк де ла Валле, но и этих минут ди Кастильоне хватило, чтобы почувствовать себя рабом… только не Божьим — а того существа, которое он давеча назвал «патриотическим дьяволом». Оно, кем бы оно ни было, не вышло из игры после сражения. Нет. Ни на минуту.
Когда Пьетро уцелел, он списал это на превратности войны. Возвращаясь в Орлеан — тайком, словно преступник, — он и сам не мог понять, для чего захотел объясниться с канцлером: рассказать о случившемся мог бы и Дювивье. Когда он оказался на улице Ангелов ровно в момент тройного покушения, он тоже счел это случайностью. Потом была еще одна. И еще… пока он не увидел бледную умирающую женщину, не услышал беспомощное квохтанье лекарей… и пока де Немюр не заговорил. И стало ясно, что никаких «случайностей» со дня прогулки по Каталаунским полям не было. А чудо обитало в особняке де ла Валле и именно ради нее, сводной сестры Марка, Пьетро вернулся в Орлеан.
Чудо приходилось Пьетро по плечо, ужасно напоминало разбуженного на рассвете Марка, и было, как и положено сверхъестественному явлению, решительным и неудержимым. Лучших падуанских врачей, полезших на стену от негодования при слове «спорынья», обозвали недостойными трусами и заткнули длинной латинской цитатой из Тротулы Салернской. Пациентке, ее мужу, канцлеру с Пьетро и даже святому Эньяну тоже досталось — за беспечность, безалаберность и пустую трату времени. От души так досталось. В промежутках между словами окна оказались распахнуты, покрывала убраны, прибавилась стопка чистых простыней, льда прибыло втрое, а прикроватный столик заполнился фарфоровыми флаконами и пузатыми склянками.
Еще появился таз с горячей водой и вонючее мыло, которым Мария мыла руки. По самые локти, острые и шелушащиеся.
— …через год вы родите Его Высочеству крепкого здорового сына, — потом девица развернулась, — а теперь мужчин я попрошу выйти вон. Всех.
Пьетро, уже знакомый с манерами Марии, в нарушение этикета подхватил особу королевской крови под руку: упадет, неровен час, и есть с чего, и повлек в сторону выхода. Дубовая дверь с резьбой — франконские гербовые львы, стоящие на задних лапах, — захлопнулась решительно, но беззвучно. Один из изгнанных медиков устремился было к герцогу, но напоролся на ласковую предостерегающую улыбку ди Кастильоне.
— Генерал, вы хотели защищать эту… это, — у канцлера, наверное, не хватило слов. — Да от нее самой защити нас всех Пресвятая Дева!
— Кажется, — герцог, видимо, слишком волновался, чтобы скрипеть, а потому говорил спокойно и ровно, — покойного коннетабля оклеветали. Эта девушка не незаконнорожденная. Она, несомненно, родная и законная сестра генерала де ла Валле. Их же отличить невозможно.
Он уже шутит. Это хорошо, что он шутит. К сожалению, все-таки сестра. Лучше бы — соплеменница из древнего народа… только все это пустые выдумки, д'Анже прав, оба они — люди.
— Я же обещал Вашему Высочеству, что чудо вас удивит, — еще раз улыбнулся Пьетро. Уже от души.
До прихода женщины, одетой в темное платье, принцессе Урсуле было почти хорошо. Уже и не страшно совсем. Страшно, больно, стыдно было накануне, а к утру она стала пустой и прозрачной, как мартовский свет, играющий на проталинах. Сделалась легким перышком, падающим в подставленную ладонь Божию. Урсула знала, что умирает, и не боялась этого. Она выполнила свой долг, свою клятву. А с Гастоном они встретятся, совсем скоро, и там уже никто и никогда не разлучит их.
Потом пришла незнакомая женщина, а с ней — боль, которой не было и вчера, когда тело, не удержавшее плод, выплевывало его в судорогах, кровавыми сгустками, и казалось, что это никогда не кончится. Боль — и надежда, потому что чужачка по имени Мария пообещала то, на что Урсула и надеяться не могла. Потому осталось лишь стиснуть зубы и терпеть. Господь решил, что Урсуле еще рано укрываться в ладони Его и послал Марию — значит, так тому и быть.
Горечь от снадобья в пересохшей глотке, зуд в онемевших пальцах, медленный, гулкий ток крови в висках, и рвущая изнутри боль от жестокой руки, вторгшейся в чрево… всепоглощающее белое сияние, наполнившее вдруг спальню. Такое яркое, что Урсула ослепла, а нестерпимая боль ушла.
Остались только неистовый свет и пробивающийся через него голос.
— Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. — Голос у чтеца мягкий, чуть хрипловатый, с незнакомым выговором. Это не покойный шевалье де Сен-Омер, знает Урсула. Чтец сидит к ней спиной, силуэт почти неразличим: белое в белом, только кровь или пурпур очерчивает плечи. — Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим…