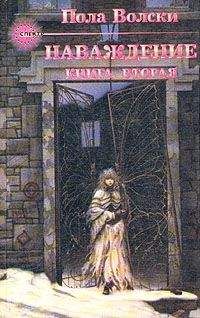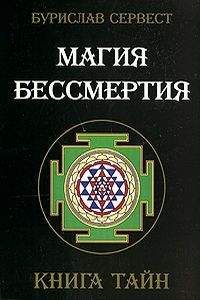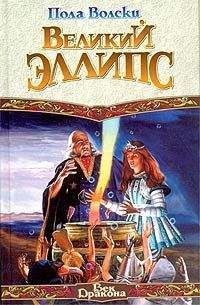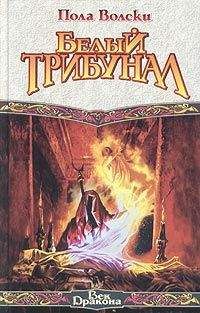Пола Вольски - Наваждение
Заключенным приказали раздеться. Они подчинились, едва ли не благодарные тюремщикам за то, что те не подвергли их позору насильственного раздевания. Куча одежды посреди комнаты быстро росла. Элистэ начала расшнуровывать корсет. Как вспышка, мелькнуло воспоминание: серо-голубая шерстяная материя, подаренная Дрефом, из которой она шьет платье; снующая игла, поблескивающая на слабом солнце конца зимы – его свет косыми полосами ложится на пол квартирки в тупике Слепого Кармана; новый наряд, надетый специально для Дрефа; «Вот прежняя Элистэ».
Платье упало на пол, за ним – нижнее льняное белье. Нагота, которая при других обстоятельствах заставила бы ее сгореть со стыда, казалась теперь несущественной. Элистэ была всего лишь одной из шестнадцати жертв, и то, что она стоит обнаженная, уже не имело значения. Гвардеец унес из комнаты ворох одежды: сперва ее перетряхнут в поисках утаенных ценностей, потом отдадут младшим тюремщикам и надзирателям.
Ей завели руки за спину, веревка больно впилась в запястья, хотя процедура была исполнена с минимальной жестокостью, быстро и профессионально. Две женщины и мужчина безмолвно плакали, но никто не сопротивлялся.
Охранники умело управились с маленьким стадом – вон из комнаты, по коридору, вниз по ступенькам, через низкую скрипучую дверь во двор, где ждала открытая повозка. Повозку, окружали народогвардейцы и взвод жандармов. Яркое солнце и прозрачная синева неба ослепили Элистэ, она зажмурилась. Теплый весенний воздух ласкал тело. День выдался великолепный. Просто роскошный.
В повозку поднимались по одному, с помощью народогвардейцев, взбираясь сперва на упаковочную клеть, которая служила подножкой. Элистэ села на одну из двух прибитых к стенке досок. Вскоре на досках не осталось свободного места, и последним заключенным пришлось стоять. Элистэ встала, уступив место старику с седой бородой, и ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Она обернулась – то был Шорви Нирьен. Он едва заметно улыбнулся, и в его черных глазах она прочитала такое бесконечное сочувствие и ободрение, что у нее перехватило горло и защипало в носу. Элистэ готова была заплакать, а вот этого ей как раз и не нужно. Ни за что! Она поспешила отвести взгляд.
Заскрипели петли, лязгнули засовы – подняли и закрепили заднюю стенку. Возница щелкнул кнутом, и повозка, со всех сторон окруженная солдатами, под грохот колес и цоканье копыт выехала со двора тюрьмы через распахнутые решетчатые ворота – как выезжало до нее множество других.
Снаружи собралась большая толпа обитателей Восьмого округа – поглазеть на Шорви Нирьена. Подонки, привыкшие провожать обреченных звериными воплями, сейчас почему-то притихли. Не было ни визгливых поношений, ни летящих камней, ни попыток прорваться к повозке. Народогвардейцы казались тут чуть ли не лишними. Горожане стояли, смотрели, и повозка катилась между их плотными рядами в запредельном молчании.
Такое же безмолвие встретило их на коротком пути от «Гробницы» до Винкулийского моста. Повозка въехала на мост, загрохотала над Виром. Свежий ветерок, как веником, прошелся по поверхности вод и улетел в самое сердце Шеррина. Река внизу переливалась в своем течении густыми оттенками зеленого и коричневого. Тут и там светлыми островками выделялись лодки под веселыми парусами. Одинокие кустики «попрошайки», пробившиеся меж камнями набережной, были усыпаны медно-желтыми цветами. Скоро предстояло зацвести вишне – и сотни деревьев облачатся в нежно-розовое кружево. Через неделю-другую весь город превратится в одно сплошное цветение…
Тем временем повозка, оставив позади старый Винкулийский мост загромыхала по булыжникам Набережного рынка. И тут горожане, подобно своим грязным оголодавшим собратьям на другом берегу Вира, толпились между палатками и ларьками, провожая процессию глазами. Молчание людей было столь всеобъемлющим, что скрип старых деревянных осей, грохот колес, перезвон упряжи и каждый шаг народогвардейцев по булыжной мостовой отдавались гулким эхом. Люди переговаривались полушепотом, и шорох приглушенных голосов пробегал по толпе, как ветер по полю; везде повторяли одно и то же имя: Шорви Нирьен…
Повозка – теперь ее сопровождала группа безмолвных горожан – миновала рынок. Торговую площадь и углубилась в путаницу переулков, по которым выбралась на улицу Клико с ее приличными магазинами, занимающими первые этажи высоких старомодных домов с узкими фасадами. По обеим сторонам улицы в какой-то уже и вовсе немыслимой тишине толпились шерринцы. Большинство горожан стояли в полном оцепенении; однако и здесь, как по всему пути следования, кое-кто выходил из толпы, чтобы проводить осужденных до места казни.
Они миновали «Приют лебедушек» – пустой, заколоченный. При виде его у Элистэ сжалось сердце, взгляд непроизвольно поднялся к оконцу в тени карниза; она бы не удивилась, приметив за стеклом свое лицо и внимательные глаза…
Оставив позади улицу Клико, повозка два раза свернула и выехала на проспект Аркад. Вдоль всего проспекта на тротуарах толпились люди. Впереди замаячил конец пути. Последние вечерние тени легли на землю, закатные облака побагровели, солнце скрылось за высокими столичными зданиями. С проспекта Аркад повозка въехала на площадь Равенства.
Элистэ огляделась, не веря своим глазам. На этой площади она бывала один-единственный раз, и тогда ей показалось, что здесь яблоку негде упасть. Но тогдашняя толпа выглядела жалкой по сравнению с нынешним стечением горожан. Площадь Равенства была запружена народом, и толпам новоприбывших приходилось тесниться в смежных улицах и проулках. Со дня казни Дунуласа XIII площадь не знала такого количества народу. Да и настроение несметной толпы было таким же, как в тот день, – торжественным, подавленным, исполненным ожидания перемен. Конечно, в историческом смысле гибель Шорви Нирьена несопоставима с казнью наследственного монарха Вонара, но и в том и в другом случае народ воспринимал смерть одного человека как перелом времен.
Появление повозки с осужденными не исторгло единодушного кровожадного вопля, как бывало обычно. Агенты с красным ромбом на рукаве, расставленные в толпе на равном расстоянии друг от друга, натужно заорали, но их крики захлебнулись и сгинули в великом безмолвии. Дружки и подружки Кокотты заверещали, как облако саранчи, но и их привычное гудение быстро сошло на нет.
Процессия неспешно продвигалась к центру площади, а тем временем некое должностное лицо отдало соответствующие распоряжения, и в руках у экспроприационистов в гражданском – их тоже заблаговременно расставили в толпе – загорелись факелы. Лес факелов. Толпа испустила могучий вздох: пламя взорвалось согласованной красочной вспышкой, позолотив вечерние сумерки, высветив и одновременно погрузив в тень эшафот, выхватив из полумрака высокий рогатый корпус Кокотты и одну-единственную массивную фигуру – Бирса Валёра, который застыл, как статуя, опершись рукою о бок Чувствительницы.