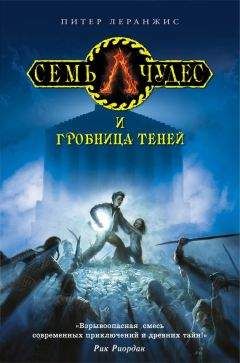Карина Демина - Хельмова дюжина красавиц (СИ)
— Теперь что изменилось? — Себастьян от алтаря отступил. — Тесно стало но Серых землях? Аль голодно? Вам-то жертвы приносят, да только надолго ли их хватает? Вы, панна Эржбета, тоже смертны… сколько вам годков-то? Небось, за пятьсот…
— У женщин о возрасте не спрашивают…
— Так то у женщин, а вы, уж простите, колдовка… сиречь, тварь Хельмова, потому и поинтересоваться не грех… думаю, тут совпало… Хольмов Избранный не мог не знать про алтарь, который ему весьма нужен. Да и смуте в королевстве он рад будет… для того и нужен вам послушный королевич… смерть короля, безумец на троне, народное возмущение… в итоге все бы завершилось, так или иначе, но королевство бы ослабло… вопрос лишь в том, для чего это вам понадобилось? Власти возжелали? Стать хозяйкой не над волкодлаками да упырями, но над людьми? Или же дело куда как проще? Вновь жизнь продлить чужою кровью? Той, которую берете на Серых землях, уже не хватает? Надобна иная сила, могучая… или не жизнь, а молодость?
— Что в том дурного? — ответила колдовка. — Сила женщины в ее красоте.
И повернувшись к ведьмаку, с насмешкой сказала:
— Разве не так, Аврелька?
— А мне откудова знать? — пожал тот плечами. — Я же вроде бы не женщина…
— Ну да… мужчина и лжец, как и все мужчины.
— Вам то, дорогая тещенька, я никогда не врал. И Милославе говорил правду, вот только слушать она не захотела…
— Не врал? — бровь приподнялась, и движение это неуловимо изменило маску лица, которое сделалось вовсе уродливым, и Евдокия никак не могла взять в толк, отчего так вышло.
Оно, лицо, осталось прежним в каждой черте своей, но если не так давно Евдокия восхищалась им, то теперь… пять сотен лет?
Неживая.
Не человек… и ведьмаки тоже не люди, но Аврелий Яковлевич в своем палито из аглицкой ткани выглядит настоящим, а она… она будто кукла восковая, которых в Краковельский музей естественных наук привозили. Короли, королевы и рядом — известные душегубцы… и Евдокия подозревала, что на душегубцев народ глядел куда охотней, нежели на особ венценосных.
Тем паче, что с душегубцами и снимочек сделать разрешали, за отдельную плату, естественно.
— Не врал, — задумчиво протянула колдовка, приближаясь. Шла она легким скользящим шагом, будто и не шла вовсе — плыла по-над полом. Юбки и те оставались неподвижны. — Конечно, ты не врал, когда клялся ей в любви… и не врал, когда перед ликом Богов обещал хранить и защищать ее до конца дней своих…
— Вам ли не знать, что ваша дочь совершила.
Она остановилась в трех шагах от ведьмака.
Разглядывает.
И Евдокия понимала: подмечает. И тросточку его из белого дерева вырезанную, и сову-навершие с янтарными солнечными глазами… и палито… и сукно это аглицкое, первого классу, с серебряной искоркой… и кротовый переливчатый воротник… и в глазах ее, колдовкиных, все это, напускное, внешнее, тает, выставляя наружу истинное нутро ведьмака… и Евдокии было жуть до чего неудобно, что и она видит все это.
— Вот она, цена твоей любви, — печально произнесла колдовка. — Один обряд.
Глава 14. Где начинается, идет с переменным успехом и завешается битва добра со злом
Лишь историки знают, как много героических поступков было совершено ввиду отсутствия других альтернатив.
Заключение, сделанное новоиспеченным доктором королевской Академии после защиты им диссертации, посвященной героической обороне Хервеля во время второй Хольмской войны.
— Семь, — Аврелий Яковлевич чуял и ее силу, и собственное бессилие. Дом, повинуясь хозяйкиному слову, норовил опутать незваных гостей липкими холодными нитями, к счастью, для людей обыкновенных невидимыми.
Нити эти прорастали сквозь пол и тянулись к ногам, ползли, подымаясь выше, обвивая ядовитым плющом. Они щедро делились и холодом иного мира, отчаянием запертых, подвластных колдовке душ, и позабытой, растворившейся в безвременье болью. Сами же пили тепло и жизнь, и Аврелий Яковлевич, стряхивая нити, все же слабел.
Ничего.
Надо потерпеть… как-нибудь да сложится… все здесь, а потому, ежели Боги будут милостивы… или не будут… не на Богов уповать надо, верно Себастьян выразился, нету богам до людских забот дела… на себя самого…
…на крестничка, который замер, не способный ни вернуть себе всецело человеческое обличье, ни обратиться.
…на Гавела, что благоразумно держался в тени, и зеркало его.
…на Себастьяна… тянет время, лисий хвост, тянет, но не вытянет. Колдовка с ним играет, потому как уверена в собственной силе… все колдовки уверены в собственной силе и превосходстве над людьми иными, в праве оных людей использовать себе на потребу.
— Хоть бы и семь, — дражайшая тещенька улыбнулась, будто оскалилась.
Болотною лилией? О нет, мертвечиной от нее несет, как от взаправдошнего упыря. Гнилью. Падалью. И запах этот, вновь же не доступный людям обыкновенным, заставляет Аврелия Яковлевича морщиться.
— Ты говорил, что она одна для тебя важна…
— А ты перекроила мои слова себе на потребу. Что, ревность взыграла? Обида? Дочь родная тебя на ведьмака променяла?
— Или наоборот? Ведьмака на меня…
— Ты ее бросила.
— Отпустила, — у колдовки черные глаза окнами в багну, а то и вовсе за грань. В них, в зеркалах иного мира, бьются мотыльками плененные души.
Слово одно — и выпустит.
Роем белым.
Жалящим.
Завьюжат, закружат, мстя живым за то, что живы, выпьют досуха, а если и не захотят, то все одно выпьют, пусть не по собственному желанию, но по ее, колдовки, слову.
— Я нашла ей другого мужа, — мурлыкнула она, протянув руку. — Достойного, а не… тебе не надоело притворяться, Аврелька?
— А разве я притворяюсь?
Запах душный невыносим. Отступить, показав слабость? Ей ведь так хочется видеть его слабым… и Аврелий Яковлевич отводит взгляд.
— А разве нет? — она, оказавшаяся вдруг близко, протянула руку, царапнув острыми коготками щеку. И это прикосновение, холодное, будто бы липкое, оставившее след, который не выйдет смыть ни водой, ни щелоковым мылом, заставило отпрянуть. — Притворяешься. Палито это… костюмчик… небось, в Познаньске на заказ шит? Рубашечки белые, батистовые… кружева… тросточка… если со стороны глянуть, то почти шляхтич, верно?
— Со стороны оно видней, — Аврелий Яковлевич не отказал себе в удовольствии вытащить платок и щеку потереть.