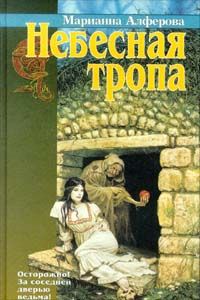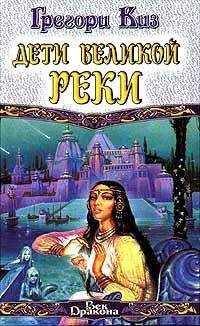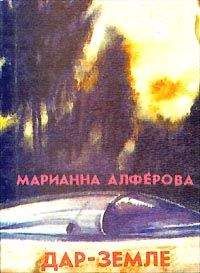Марианна Алферова - Небесная тропа
Теперь мешок сделался тяжел, и Арсений закинул его за спину. Кровь просочилась сквозь ветровку, и рубашка начала промокать. И тут на лицо Арсения упала капля – но не дождевая. Капля была теплой и, стекая по щеке, оставила липкий след. Арсений поднял голову. Из выбитого окна второго этажа торчал брус, и на нем, ухваченный за ребро, болтался обезглавленный торс. Тут же, в колдобине мостовой, валялась голова. Арсений наклонился поднять и замер. Голова еще жила. На лбу прорезалась страдальческая морщина, глаза таращились, переполненные болью, рот раскрылся, и язык, дрожа, бился о зубы.
– Потерпи, парень. – Арсений ухватил голову за длинные волосы. – Недолго тебе мучиться.
– Сбираешь, значит? – раздался за спиной насмешливый голос.
Арсений, не распрямляясь, оглянулся. Трое парней в желтых клеенчатых жилетках обступили его.
– Вы засеяли, я сбираю. – Арсений спрятал отрубленную голову в мешок, краем глаза наблюдая за парнями.
– Человечинки захотелось! – крикнул один из них, по всему видно – главный, и нацелился пнуть Арсения в лицо.
Но ботинок угодил в пустоту, а главняк растянулся на асфальте. По горлу его как будто полоснули ножом, он не мог ни крикнуть, ни вздохнуть и лишь судорожно колотил руками и ногами по мостовой. Второй желтушник впечатался в стену, да так и остался стоять, будто приклеился к серому фундаменту. Третий… Тот пустился наутек.
– Вот что я скажу, ребята! – Арсений взвалил мешок на спину. – Вы свое дело сделали, теперь уходите. Вовремя уходите. Никогда не стоит продлевать удовольствие.
– Голова, – прохрипел главный. – Голова и рука… правая… остальное бери…
– Нет, господа потрошители, мне нужно все, до последнего мизинца, – отвечал Арсений и, подкинув мешок на спине, зашагал по улице.
Глава 2
Она сидела у окна и ждала. Ждать… Какое упоительное, почти сладострастное занятие, затягивающее, как водка, одуряющее, как любовь, способное поглотить целую жизнь. Она гордилась тем, что умела ждать. Из этого умения, как из волшебного корня, выросли три великих добродетели-порока: терпение, смирение, прощение.
…Двадцать лет, почти двадцать лет лежал Сергей бездвижным бревном на кровати. Или сидел у окна в инвалидном кресле, никогда не покидая квартиры.
– Не хочу унижаться, – говорил Сергей.
Каждый день она массировала его до времени одряхлевшее тело, мыла два раза в неделю в ванной. Но вместо благодарности с его губ слетали плевки ругательств. Он корил ее за то, что Эрик умер, а она выжила, за то, что она не может больше иметь детей, хотя он, вернувшийся полупарализованным с войны, вряд ли мог стать отцом. Ольге казалось порой, что не может он быть таким злобным и подлым, но лишь изображает злобного и подлого, хочет, чтобы она не выдержала и ушла, бросила его, дала ему право окончательно озлобиться на весь мир.
Помнится, блузку она сшили себе к празднику: такая милая получилась: ситцевая, с воланчиками. Надела, подошла к Сергею.
– Смотри, Сереженька, красиво? Нравится?
А он улыбнулся странно, криво, поманил пальцем. Она наклонилась, и тогда он вцепился в ворот и разорвал блузку от горловины до низу.
– Для кого нарядилась? Для кого, говори?!
Она сидела на полу, плакала и повторяла:
– Нельзя так! Пойми ты, нельзя так! Нельзя!
Он смотрел в одну точку и молчал. Он все прекрасно понимал, но не мог пересилить собственной злобы. Ему было проще ненавидеть. Свой последний бой на земле он проиграл.
А ведь до войны он был совсем другим. Ласковым, внимательным, добрым. Дерзким порой. Обаятельно дерзким. Она влюбилась в него без памяти. Но быстро улетучилось счастливое похмелье. Жизнь переломала их обоих и вывернула наизнанку. Ей осталось лишь терпеть, терпеть, терпеть, надеясь, что этим искупит прошлое.
Искупит то, что не успела уехать с Эриком в эвакуацию. У нее был уже билет на поезд, и вещи собраны. Но у Эрика начался понос, и они не поехали. Эмма Ивановна сказала: ехать в таком состоянии – верная смерть. Ольга осталась, уехала свекровь. Потом, вернувшись из эвакуации, рассказывала, как тяжело ей там пришлось:
«Вообрази, Оленька, мон ами, я даже не могла поесть летом клубники. Ужасно!» – она так непосредственно рассказывала о своих слабостях. Не закатывала глаза, не ломала рук. Голос всегда ровный, и улыбка на губах. Говорит с тобой, будто ты ее лучший друг. И эта задушевность придавала особый смысл каждой фразе, каждой мелочи.
Помнится, осень. Эмма Ивановка выменяла на золотую брошку стакан чечевицы. У них еще был керосин, и свекровь принялась варить на керосинке кашу. К ней подошла соседка о чем-то спросить, увидела кипящую чечевицу и давай ложку черпать из кастрюльки Эммы Ивановны. А та стояла подле и ничего не могла вымолвить. Считала неприличным сказать: «Не смейте есть мою кашу!»
Теперь такие люди вымерли – люди, умевшие даже в глупости быть изысканными.
Если бы Ольга могла иметь детей! Но после смерти Эрика она пошла работать. И ее как молодую не обремененную детьми женщину тут же отправили на лесозаготовки. Она таскала сырые двухметровые бревна и грузила их в вагоны. Каждый тащил свое бревно в одиночку: иначе не выполнишь норму, не получишь положенную пайку хлеба. И не было даже настила, чтобы закатывать бревна в вагон. Кого волновали подобные мелочи! «Свободные» граждане непокоренного города трудились, как ЗэКи. Она не понимала теперь, как могла тогда, иссохшая как скелет, с опухшими ногами, таскать двухметровые неподъемные бревна! Оказывается, могла. Только после этого уже никого не могла родить. Бессмысленное изуверство? Или осмысленное? С годами она бросила искать ответ на этот вопрос.
Постепенно жизнь стала казаться кирпичом на шее. От кирпича нельзя избавиться, потому что существует еще и веревка, на которой этот кирпич висит. Веревка душит и лишает воли. Душа немеет. И так длится бесконечно. Пока в один страшный день она не очнулась и не поняла, что осталась одна. Сергея не стало, и вместе с его смертью рухнула непосильная громада обязанностей. Но пустота оказалась еще более непереносимой. Другая бы кинулась искать мужа. Она попыталась найти сына.
Тогда-то в ее жизни и появился Сеня Гребнев. Он приходился ей дальней родней, какая в нынешней городской жизни и за родню-то не считается. Сын умершего двоюродного брата, мальчик страшно мешал его вдове, переехавшей в город и срочно обустраивающей свою жизнь. И вышло почти само собой, что Сеня переехал к Ольге Михайловне и стал жить у нее. Она и в школу его снаряжала, и по кружкам водила, и в бассейн абонемент доставала на работе, и на елки билеты, и в пионерлагеря путевки. Такие обычные, знакомые по чужим разговорам пошли у нее хлопоты: к открытию магазина успеть, чтобы творог достать, потом в очередь за колбасой, на рынок за фруктами съездить. Первые два года Ольга Михайловна была абсолютно счастлива. Ей казалось, что она вновь обрела сына. Но потом… Постепенно, подспудно стала всплывать в сознании мысль: «Эрик был бы совсем другим!»