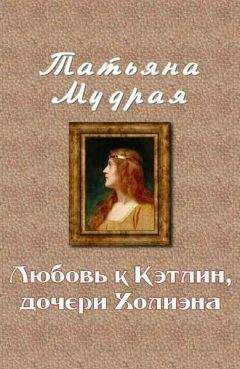Татьяна Мудрая - Меч и его Король
— Низведения — это как? Я думал, действует случайный порыв или вроде того.
— Чушь. Участники обычно наперед знают, кто придет забрать: сам мейстер, его близкий родич или кто-то со стороны. С кем договорятся заранее.
Ну вот, и стал я потихоньку женихаться.
Теперь думаю: мне бы настоять на своём праве — хоть силой. Иначе бы дело повернулось.
Поместили мы Селету не в подвале, где, как ты помнишь, находились всякие ужасы: камера для пыточного инструмента, клетушки для приговоренных, баня с парильней… Нет, мы ей вполне хорошую комнату выделили, наверху. Рядом с той, где я позже Торригаль держал, понимаешь? В её светелке жить у меня потом не получилось. Тогда, да и сейчас на всех окнах стояли решетки, намертво завинченные в дерево. Прутья толщиной в палец. И дверные засовы с обеих сторон. На ее-то двери внутренний пришлось снять. А помимо этого — всего ей хватало: и ваза для надобностей всегда была вычищена, и питьевой кувшин сладкой воды полон, и мыться в лохани каждую декаду приносили. А как дед Рутгер тогда стряпал — это ж ни одна баба так не сумеет! Оттого и не жаловал он это племя.
За главного сторожа, натурально, был при Селете я. Обедами кормить, грязь всякую выволакивать, стоять в сторонке, покуда она моется, ну, книжку там занести — оба мы их любили. Оба равно грамотные.
Знаешь, она какая была? Кожа белая, будто светилась изнутри. Глаза… не синие, это я хватил. Серые, только что без прозелени, и тёмные такие — непроглядней только ночь бывает. Рот совсем крошечный. А косы тонкие, гладкие, как распустит по спине — словно ручей промеж лопаток текут. Плавно и узкой струей. А коли спереди — тайного места достигают и с ним цветом сливаются. В кости тонка, груди девичьи, задик крепкий — точно у доброй наездницы.
Откуда я это знал, если с ней тогда еще не слюбился?
Ты понимаешь, в доме нет женщин. А прислуживать госпоже — нет, надзирать за мытьём, чтобы нарочно не захлебнулась, бывают ведь и такие умелицы, — кому, как не самому молодому? И одним с ней жаром пылать?
Ну вот, однажды я подошел, чтобы мокрое купальное полотнище с тела принять и подать ей, отворотясь, тёплую сорочку. И обхватил Сели этак со спины.
Она не то что отодвинулась. Но вроде как да.
Вышла из пены и говорит:
— Хотела бы я тебя приветить, правда. Но не умею. Давай успокоимся оба и хорошенько поговорим.
Сели тут же на лавку. Она богато была накрыта: плотным бархатом такого цвета, как Селетины косы. Я сам отыскивал в рухляди этот старинный чехол.
И говорит она мне:
— Слыхал, наверное, сколько у меня аматёров было? Не семь и не десять — дюжины две, наверное. Сама иногда сбиваюсь, когда по пальцам пересчитываю да рассуждаю — по какому разряду того или иного числить. Кто муж, кто сердечный друг, кто защитник, а с кем просто взаимно поздоровались на особенный готийский манер.
Но, видишь ли, я их всех близко к сердцу принимала — без того и быть не могло. Я почти как мужчина — не поднимется, так и не будет ничего. Ни плотского слияния, ни душевной тяги. Странно, да? А что до дворянства — лестно мне было, разумеется. И деньги не лишними были. Не такие уж хорошие — твоему Готлибу за меня побольше заплатили, чем мне иной муж в свадебную корзинку клал. Слишком много в Готии этих аристо — каждый седьмой, наверное. Жить им не на что, одну славу добывать мастера. Вот и превращаются понемногу в замогильную пыль. Как и все мои повенчанные мужья. Знаешь ведь, наверное, и отчего я в ловушку попала? Умирающий меня просил очень сильно. Никак отступить было нельзя. А поп, кто венчал, — он ведь про нас и донёс. Закрутилось, завертелось, завьюжило…
— Так я и не прошу любви, — ответил я. — Хватит с меня того, что ты рядом жить станешь.
— Повенчанной, да не женой по истине?
— Хотя бы и так, — отвечаю.
— Не хочу больше врать, — говорит Селета. — Ложь всегда не тем боком выходит.
И договорились мы тогда, что время еще есть, ибо Готлиба нашего отпустили надолго и когда снова призовут — непонятно. Это он эдак тайно у родичей гостил, называется. Гонцы так и шастали взад-вперед. Не такие простые, к слову, как нам думалось.
И вот я стал приносить в светёлку старинные наряды и примерять на нее. Ты ведь понимаешь, род наш всегда был зажиточен. Про право на одежду казнимого и не вспоминай — давно уж в этом не было необходимости. За звонкую монету всё покупалось. Сами-то мы не имели право на яркие ткани — только чёрное, и темно-багровое, и цвета корицы. А наши женщины за оба пола отыгрывались…
Парчовые ризы. Туники с торчащими, как крылья, плечами, а по подолу скондская вязь. Я ее читал ради Сели — угадывал, скорее. Это отец мне распутывал те хитрые знаки. Про деву, чья красота свергает царства, про тюрчанку, за родинку на щечке которой можно отдать пять великих городов, про сокровенное, что жаждет стать узнанным…
И бусы из кораллов в серебряной оправе — роскошные. И речные жемчуга — они не такие круглые, как взятые из моря, только их сияние оттого более игриво и переменчиво. И рубашки тонкого полотна. Башмачки из блестящей мягкой кожи…
Даже такой наголовник отыскал — «брови» называется. Как широкий серебряный лук с подвесками, бахромой из цепочек, падающих на глаза. Чтобы отметинку прикрыть, ежели Селета чужих глаз застыдится.
А что до браслетов — вместо тех позорных, в которых ее отец привёз, с самого первого дня носила она чистейшее мягкое золото. Почти без примеси и того же цвета, что и ее косы. С небольшой краснинкой.
Ну и ласкались мы, понятно. Но до самого конца она меня не пускала.
— И чем кончилось-то? — спросил я. — Говори, не томи.
— Ясно чем, — вздохнул он. — Двух декад не прошло, как говорит мне моя Сели этак просто:
— Не могу больше. И хороший ты парень, да не ладится у меня с тобой. Не пойду за тебя никогда.
А это могло означать только одно.
Ну, как я уже сказал, чужаков мы прилюдно на помост не возводим — незачем. Так что дед позвал из ратуши служителя, который обычно надзирал над исполнением, и мы втроём повели Селету в ближнюю рощу. После исповеди, причащения и всего такого.
Почему втроём?
Готлиб сказал, что стыдится на глаза ей выйти. После всех обещаний. И после той истории с клеймом.
Да, она ведь очень крови боялась. До холодного ужаса. И попросила у нас верёвку, а не клинок.
Рутгер стал было её отговаривать Мол, ни крови своей ты не увидишь, ни меча, ни самой смерти не почуешь. А так всего будет в достатке: и задыхаться станешь, и ногами бить в воздухе, и от вида петли не увернешься.
— А может, мне так и положено, — ответила она. — Во искупление того, что я жила на свете.