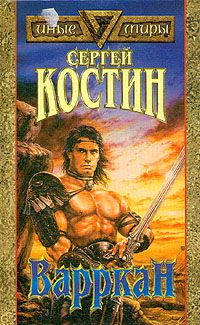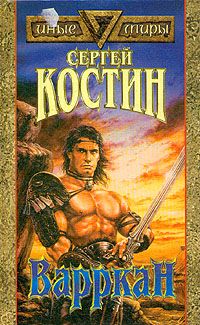Ярослава Кузнецова - Золотая свирель
— Не боять, — сказал мальчик и нахмурился, — Се. Се боять? Хм…
— Бояться, — поправила я, — Не бойся.
— Не бойся, — он снова блеснул улыбкой.
А я уже не боялась. Мне пришла на ум строка из песни. Песенка эта была вовсе не деревенская, ее как-то распевал на площади города заезжий арфист, а я запомнила, хоть вычурный текст больше чем на половину был мне непонятен.
— Красота твоя глаза спалила мне, — заявила я, неожиданно для себя самой. — Солнцу — и тому смелей в лицо гляжу. Вздох твоих шелков — помраченье дней, звук твоих шагов — скорой ночи жуть.
Я отбарабанила стишок и обалдела от собственной наглости. Мне ведь надо было не стихи читать, а поскорее откланяться и смыться, пока он добрый. Но странный чужак не стал карать меня за дерзость. В глазах его вспыхнули лиловые огни, скулы залил румянец, он осанисто выпрямился в седле, прижал к груди затянутую в перчатку руку — и выдал мне длинную, явно рифмованную тираду на гортанном, чуть задыхающемся языке. Я разинула рот. Мне казалось, я понимаю его, хотя не поняла ни слова. Что-то знакомое — и в то же время чуждое. Я никогда не слышала этого языка, но…
Юноша повелительным жестом показал на берег — спускайся, мол, со своей коряги. Развернул лошадь и величественно вплыл на ней в зеленый коридор.
На берегу ко мне первым делом чинно подошли собаки — знакомиться. Их было восемь штук, одна к одной, серые с подпалом, гладкие, высоконогие, плоские, как из досок выпиленные. Приветливые и спокойные собаки. Я не раз видела охотничьих псов — и гончих, и тех, которых используют чтобы подносить подбитую птицу, но эти псы казались особенными. Парень тем временем спешился, отстегнул мундштук, и, хлопнув лошадь по плечу, пустил попастись. Он кивнул на мою корзинку, лежащую в траве.
— Что это?
— Аир. Водяная лилия. Лекарственные корешки.
— Лекар… Э? Ремедьо?
Как обухом по голове — это же андалат! Но не старый андалат, на котором у нас в монастыре пели псалмы и вели службы, который я штудировала по книгам, а живой, разговорный. А прекрасный незнакомец — уроженец сказочного Андалана.
— Да, — обрадовалась я. — Ремедьо, лекарство. Смотри, это корень эспаданы… раисино де эспадана, а это — ненюфар… тоже корень…
Охотник с новым интересом взглянул на меня, подняв брови:
— Раих де эхпаданья? Ты есть лекарь?
Я покачала головой.
— Знахарка.
— Ке эх… что это?
— Лекарь для бедных, — объяснила я. — лекарь из деревни.
— Вийана? Э.. вилланка?
— Свободная.
Он прищурился, затем сорвал с правой руки замшевую перчатку и царственно протянул мне узкую, словно из янтаря выточенную кисть. Я так растерялась, что едва не попятилась.
— Лечить, араньика, — велел он.
Несколько долгих мгновений я озадаченно пялилась на холеные, с прозрачной кожей пальцы, на ногти, ровные, будто жемчужины, на алые и золотистые камни в перстнях — и не могла понять, что от меня требуется. А потом заметила под ногтем указательного темную стрелку. Я осторожно ухватила палец и приподняла — под ногтем все было прилежно расковыряно, кровь уже унялась, и даже краснота почти сошла. Но это был обманчивый успех — всем известно что случается, если занозу не вытащить полностью. А зашла она очень глубоко, видимо, ковыряя кинжалом, мальчик загнал ее еще глубже. Ясное дело, что заноза под ногтем — не такая беда чтобы прерывать приятную прогулку, и в городе любой лекарь вытащил бы ее меньше чем за шестую четверти. Но аристократику-чужестранцу, очевидно, тоже захотелось экзотики — а для него экзотикой была знахарка из Кустового Кута.
Эх, была бы это просто кровоточащая ранка — такой бы я ему фокус показала! Небось и не видел никогда как словом кровь затворяют. Занозу тоже можно попытаться выманить, однако без основы, без того целого, частью которого эта заноза когда-то являлась, подобная затея чревата провалом. Мне очень, очень не хотелось оконфузится перед любопытствующим красавчиком. А в лесу — поди найди, о какую из деревяшек он рассадил себе руку. Скорее всего, это было мертвое дерево, но, может, он заметил хотя бы, сосна это была или береза… На всякий случай я спросила:
— Чем ты поранился?
— А? — не понял он.
— Что это было? — я показала жестом, как щепка входит под ноготь, — Какое дерево?
— А! — он рассмеялся и свободной рукой выхватил из-за уха цветок шиповника, — Эхте сарсароса. Красивый, но злой.
Я не поверила своей удаче. Шиповниковый шип! Если хоть один остался на черенке… есть! Не один, а несколько, совсем маленькие, но это уже не имеет значения.
Я плюнула на стебелек, аккуратно приложила его к расковырянному месту под ногтем, и зажала в кулаке и стебелек и больной палец. Нагнулась и зашептала в кулак:
— Я кора сырая, щепа сухая, пень, колода, ракитова порода, от черных сучьев, от белых корней, от зеленых ветвей, зову своих малых детей, я трава лютоеда, зову своего соседа, я жало острожалое, зову свою сестру малую: выходи, сестра моя, из суставов и полусуставов, из ногтей и полуногтей, из жил и полужильцев, из белой кости, из карого мяса, из рудой крови, выходи, сестра моя, на белый свет, выноси свою ярь. Нет от шипа плоду, от мертвой щепы уроду, от поруба руды, от пупыша головы. Рот мой — коробея, язык мой — замок, а ключ канул в мох.
Повторив заговор три раза, я убрала стебелек, и, сжав палец так, чтобы из кулака торчал только маленький его кончик, припала к нему губами и принялась высасывать занозу. Через небольшое время в язык мне слабенько кольнуло. Я подняла голову, намереваясь сплюнуть, но во время остановилась. Лизнула тыльную сторону собственной ладони и показала мальчику прилипший к коже крохотный обломок шипа.
— А лах миль маравийах… — пробормотал он, разглядывая свой чистый ноготь и малюсенькую щепочку у меня на руке, — Это есть… колдование?
— Да ну что ты, — застеснялась я, — Деревенские фокусы. Занозу можно было вытащить обыкновенной иглой или печеную луковицу приложить, к утру бы все вытянуло. Это так, забава.
— Эхпасибо, — он забрал у меня цветок и снова воткнул за ухо. Потом развязал кошель и выудил серебряную монетку в одну архенту, — Возьми, араньика.
Я отшагнула назад.
— Ты слишком дорого ценишь мой труд, милостивый господин.
Он выгнул бровь, длинную, как крыло альбатроса. Удивился. Это хорошо, что удивился, мне на руку его удивление. Я, конечно, хотела бы получить эту серебряную денежку (больше, чем я когда-либо зарабатывала, Левкоя мне голову оторвет, если узнает!), но внутреннее чутье подсказывало: брать нельзя. Нельзя сводить нашу едва возникшую, тончайшую, невозможную, драгоценную связь к получению денег. Я знала единственный способ хоть немного продлить ее — оставить мальчика своим должником. И вообще, похоже, мне пора уходить. Нельзя разрушать чары. Эта встреча не последняя.