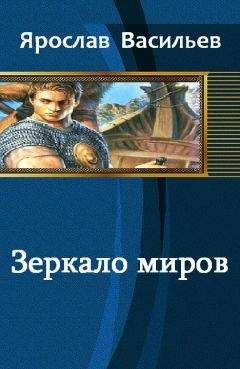Мервин Пик - Горменгаст
Были они высоки, как башни, с огромными лбами, выступающими над глубоко запавшими глазами, подобно выпуклостям нависающих скал. В ушах их болтались обручи из червонного золота, изо ртов, роняя капли, свисали острые, как косы, абордажные сабли. Из красной мглы выходили они, сощурясь от встречного солнца, и вода вкруг их поясов завивалась и закипала от горячего света, отраженного ими — такими огромными, что они заслоняли собою все остальное: но они все надвигались и надвигались, пока разум мальчика не переполнили их блестящие, как проволока, тела и каменные головы. Они надвигались, пока всего и осталось места, что для тлеющей головы центрального буканьера, великого владыки соленых вод, чье лицо покрывали, как мальчишечье колено, сплошь струпья и шрамы, чьи зубы были подпилены так, что походили формой на черепа, шею огибала нататуированная чешуйчатая змея. И пока голова вырастала в размерах, во тьме глазниц ее проступали глаза, а через миг уже ничего не было видно, кроме одного ока, неистового, зловещего. На мгновение глаз застыл, неподвижный. Только он и остался в огромном мире — этот шар. Он сам и был миром — и вдруг завращался, как миру и следует. Он кружил и разбухал, и вскоре остался один наполненный сознанием зрачок, и в этой ночной зенице Титус увидел собственное пытливое отражение. Кто-то приближался к нему из тьмы пиратского зрака, и скоро ржаво-красная точка света над челом близящейся фигуры обратилась в локон, выбившийся из копны материнских волос. Но прежде, чем мать приблизилась, лицо и тело ее расплылись и место волос занял рубин Фуксии, подлетающий в темноте, как бы на нити. Затем исчез и он, а за ним — и стеклянный шарик, лежащий в ладони Титуса со всеми его спиралями — желтой, зеленой, фиалковой, синей, красной… желтой… зеленой… фиалковой… синей… желтой… зеленой… фиалковой… желтой… зеленой… желтой… желтой.
И Титус совершенно ясно увидел большой подсолнух на усталой щетинистой шее, который Фуксия таскала с собой последние два дня, однако рука, державшая его, — рука принадлежала не Фуксии. Пальцы ее — указательный и большой — легко сжимали тяжелое растение поближе к цветку, будто оно было хрупчайшей вещью в мире. На каждом пальце поблескивали золотые перстни, отчего ладонь походила на ратную рукавицу из пылающего металла — на часть доспеха.
В следующий миг, скрыв от него рукавицу, туча листьев взвихрилась вокруг Титуса — сонмище желтых листьев, вьющихся, ныряющих, взлетающих, проносясь по бездревесной пустыне, а сверху, с неба, охваченного пожаром, солнце изливало на них, стремительно несущихся, свет. Мир залила желтизна, и Титус уже поплыл в еще более глубокое чрево этого цвета, когда Кличбор вдруг вздрогнул и проснулся, и закутался в мантию, как бог, собирающий бурю, и с тусклым, бессильным хлопком уронил ладонь на поверхность стола. Нелепо благородная голова его поднялась. Надменный, пустой взгляд зацепился наконец за юного Песоко.
— Не будет ли с моей стороны чрезмерным нахальством, — помолчав, произнес он с зевком, выставившим напоказ кариозные зубы, — поинтересоваться у вас, что кроется за этой маской чернил и грязи — не некий ли молодой человек, не слишком прилежный молодой человек по прозванью Песоко? Сокрыто ли в этом убогом узле тряпья человечье тело и не принадлежит ли оное все тому же Песоко?
Кличбор еще раз зевнул. Один глаз его глядел на часы, другой, озадаченный, не отрывался от ученика.
— Изложу свой вопрос несколько проще: вы ли это, Песоко? Вы ли сидите во втором, считая спереди, ряду? Вы ли занимаете третью парту слева? И вы ли — если под темно-синим намордником и вправду прячетесь вы — вырезаете нечто несказанно увлекательное на крышке вашей парты? Для того ли я пробудился, чтобы застать вас за этим занятием, молодой человек?
Песоко, мальчик невзрачный, мелкий, немного поерзал.
— Ответьте же мне, Песоко. Вырезали ль вы нечто, полагая, что ваш старый учитель заснул?
— Да, господин, — ответил Песоко на удивление громко — так громко, что и сам испугался и огляделся по сторонам, словно пытаясь понять, кто это сказал.
— И что же вы резали, мой мальчик?
— Мое имя, господин.
— Как, все ваше, столь длинное, имя?
— Я успел вырезать только три первых буквы, господин.
Запеленатый в мантию Кличбор поднялся. С милостивым, царственным видом прошествовал он пыльным проходом к парте Песоко.
— Вы не закончили «С», — сообщил он отсутствующим, траурным тоном. — Закончите «С» и остановитесь на этом. «ОКО» же оставьте для другого урока… — Бессмысленная улыбка вспыхнула и погасла в нижней части лица Кличбора. — Скажем, для урока грамматики, — сказал он вдруг весело, жутковато не соответствующим его характеру голосом. И расхохотался, да так, что, пожалуй, хохот этот мог стать и неуправляемым, но приступ боли прервал его, и Кличбор схватился за челюсть — там, где она вопияла, призывая щипцы зубодера.
Спустя несколько мгновений:
— Встать! — приказал он. Присев за парту Песоко, он взял лежавший на ней перочинный ножик и трудился над «С», завершающим слово «ПЕС», пока звонок не обратил классную комнату в ложе реки, по которому стремительно понесся к двери поток мальчишек, так стремительно, словно они ожидали увидеть за нею воплощения их раздельных мечтаний — когти опасности, рога романтической любви.
Ирма жаждет устроить прием— Ну хорошо, хорошо, как хочешь! — вскричал Альфред Прюнскваллор. — Как хочешь!
Страстное, радостное отчаяние прозвучало в его голосе. Радостное, потому что решение, пусть и столь неразумное, было наконец, принято. Отчаяние, потому что жить с Ирмой означало, с какой стороны ни взгляни, пребывать в отчаянном положении — в особенности теперь, когда ее обуяло желание устроить прием.
— Альфред! Альфред! ты серьезно? Ты действительно постараешься сделать все, как я попрошу, Альфред? Я говорю, ты действительно постараешься сделать все, как я попрошу?
— Ради тебя я постараюсь расшибиться в лепешку, моя дорогая.
— Так ты решил, Альфред, — я говорю, ты решил? — бездыханно спросила она.
— Это ты у нас решаешь, дорогая моя пертурбация. А я подчиняюсь. Так уж сложилось. Я слаб. Я податлив. Ты сделаешь все на свой манер — чреватый, боюсь, чудовищными последствиями, — но на свой, Ирма, на свой. А прием, что ж, прием мы закатим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Что-то не вполне искреннее прозвучало в визгливом его хохотке. Уж не примешалась ли к нему толика горечи?
— В конце концов, — продолжал он, усаживаясь на спинку кресла (ступни на сиденье, подбородок уперт в колени — ну вылитый кузнечик), — …в конце концов, ты прождала так долго. Так долго. Но, как тебе известно, я бы никогда ничего подобного не присоветовал. Ты женщина не из тех, что годны для приемов. Нет в тебе той ветрености, которая требуется, чтобы провести прием без сучка без задоринки. Но ведь все равно тебя с пути не свернешь.
— Никакими словами, — откликнулась Ирма.
— А уверена ли ты, что из твоего брата получится хороший хозяин?
— Ах, Альфред, я могла бы в этом быть уверена! — сурово прошептала она. — Я была бы уверена в этом, если бы ты все время не умничал. Я иногда так устаю от твоих разговоров. И мне, вообще-то, совсем не нравится то, что ты говоришь.
— Ирма, — ответил ей брат, — так ведь и мне тоже. Ко времени, когда сказанное мною достигает моих ушей, оно теряет всякую свежесть. Мозг и язык так далеко отстоят друг от друга.
— Вот именно подобную чушь я и ненавижу! — с внезапным пылом воскликнула Ирма. — Поговорим мы наконец о приеме, или ты так и будешь смаковать плоды своего дурацкого остроумия?
— Перехожу на хлеб и воду. Что ты хочешь услышать?
Прюнскваллор слез со спинки кресла и сел в него. Затем слегка наклонился вперед, зажал коленями ладони и через увеличительные стекла очков выжидательно уставился на Ирму. Впрочем, она, глядя на брата сквозь собственные темные стекла, почти и не видела его увеличенных глаз.
Ирма чувствовала, что эта минута наделила ее некоторым моральным превосходством. Покорное выражение братнина лица придало ей силу, необходимую для того, чтобы открыть ему подлинную причину, по которой она так страстно желала устроить этот прием — к тому же, ей требовалась его поддержка.
— Знаешь ли ты, Альфред, — произнесла она, — что я подумываю о замужестве?
— Ирма! — воскликнул брат. — Не может быть!
— Еще как может, — чуть слышно отозвалась Ирма. — Еще как может.
Прюнскваллор совсем уж было собрался спросить, кого же намерена она осчастливить, но тут странное сочувствие к сестре, несчастному, в сущности говоря, созданию, сжало его сердце. Он знал, сколь скудны были предоставлявшиеся ей в прошлом возможности знакомства с мужчинами, знал, что она ничего не ведает о хитроумных гамбитах любви — ничего, кроме вычитанного из книжек. И знал также, что никого определенного на уме у нее нет. А потому сказал: