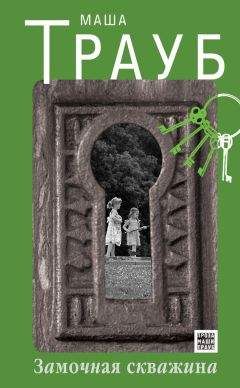Ярослава Кузнецова - День цветения
— Погоди, — огонь уже разгорелся, скоро закипит вода, можно будет заварить питье для наших больных… — Погоди… Маленькая Марантина мне… объясняла… "Твои люди". Крестьяне. Они живут и обрабатывают землю, принадлежащую Треверрам… а раньше твоей семье?
— Да. Но не только это. Они — гироты. У гиротов немного по-другому, чем у лираэнцев. Другие обычаи. Если…. - спокойно, черт возьми, раз, два — нету:- Если я позову на помощь, а они не придут — они нарушат Слово верности.
— Они когда-то давали тебе это… слово верности?
— Не они и не мне. Их отцы моему отцу. Я не стоял с ними у Камня.
Но ей это все равно — она послала Знак не кому-нибудь, Лервете, сумасбродной жене бондаря, которой только дай пошуметь, и сын у нее такой же… синие нитки… в чем она себя винит?.. Черт, да какое мне дело?!.
— Кажется, я понимаю, — проговорил Иргиаро. — Люди разные. Иногда отличаются друг от друга больше, чем люди от аблисов…
Оставил огонь в печи весело похрустывать дровами и пошел к лавкам, к своей Маленькой Марантине.
Повернулся, глянул на меня:
— Ты говоришь, нам надо уходить. А как же Большой Человек?
— Надо уходить отсюда, — сказал я. — Этот дом засвечен. Нас могут взять здесь. Уйдем ко мне, Иргиаро. В Орлиный Коготь.
Он слабо усмехнулся, тронул забинтованную щеку:
— Ты не слишком доверяешь своим… крестьянам, колдун?
Я просто хочу быть более-менее спокоен.
— Ни к чему искушать человека зря.
— Люди разные, — кивнул он. — А уходить — ко мне. Наверх. Наверх не полезут, м-м?
— Угу.
"Ко мне", ишь ты. Впрочем, разве не так? Он жил в Орлином Когте, он, чужой, ходил по большой зале, козы его… А ты, хозяин, двадцать пять лет шлялся повсюду, где только мог. Учился. Играть против Паучьего семейства… И дом твой перестал быть твоим домом, и люди твои перестали быть твоими людьми, и сам ты перестал быть человеком, флакончик с "эссарахр для вессаров", и ушел из Аххар Лаог — мстить — в никуда…
Раз, два — нету.
— Сюда идет человек, — сказал Иргиаро. — Он один.
— Вовремя, — я бросил травки в воду, — Закипит — отодвинь чуть-чуть, чтобы не плевалось. Досчитай до пяти десятков и снимай.
Иргиаро кивнул, а я вышел в сени и на крыльцо, в предрассветную муть. Человек приблизился, поклонился, прижав к сердцу правый кулак:
— Это я, господин мой. Ивар, Лерветин сын. Пришел, как ты велел.
— Хорошо. Слушай. Отбери самых надежных людей…
— Господин, мы…
— Тебя учили перебивать?
— Прости, господин мой, — он склонил голову.
Накатила усталость, я привалился плечом к косяку. Зачем все это, боги, зачем?.. Имори. Добродушный безответный Имори. Серые глазенки мальчишки — в них боль и надежда… скорбно поджатые губы Радвары-энны… Хватит. Они все равно что-нибудь сделают. Пусть сделают то, что будет полезно нам и не особенно навредит им… будем надеяться.
— В лесу на всех тропах, дорожках и тропинках должны быть завалы. Как можно больше. Чтобы лошадь не прошла. А когда "хваты" придут к вам и заставят вас разбирать эти завалы…
— Мы им ужо… — осекся под моим взглядом, снова опустил голову, — Прости, господин.
— Вы должны разбирать эти завалы со всем возможным усердием, быстро и послушно. Ни в какие свары не встревать. Вести себя чинно.
Вот так. Но этого мало им, мало, чтобы действительно "не встревать". Что ж, по Канону, так по Канону.
— Я отсюда уйду. Хозяином вам оставлю брата своего. Эрвела Треверра. Крови Эдаваргонов нет на нем, и на младшем Треверре, Рейгреде — они чисты перед землей и перед вами. Эрвел Треверр будет блюсти закон, не нарушайте закон и вы.
Ивар вскинулся, сглотнул, выговорил потрясенно:
— Это как же, господин… ты, значит, что… Ты с ним Слово братства скажешь?.. С Треверром?..
— Да. А теперь ступай. И помни: не смейте бунтовать. Не смейте выражать неповиновение. Если прольется кровь, вся она будет на мне.
— Что ты, господин, — бормотал Ивар, — мы… да мы… да что ты…
— Все. Теперь ступай.
— Господин…
— Я не господин тебе больше.
Он упрямо мотнул головой:
— Это — когда я им всем скажу. А пока… — выпрямился, взглянул в лицо мне:- Ответь, господин. Имя свое скажи человеку своему.
Имя.
Имя…
А есть оно у меня?
Было ли?..
— Прежнего твоего хозяина звали Релован. А теперешнего зовут Эрвел Треверр.
Иди же, черт тебя возьми!
А он шагнул еще ближе, быстро ухватил мою руку, прижался лбом, шепнул в ладонь мне:
— Релован, господин мой, — развернулся и убежал, скрипя по снегу сапогами.
И очень своевременно убежал. Очень… своевременно… дьявол, да что это со мной делается?
А ну-ка, соберись!
Вот, так уже лучше.
Когда я вернулся в избу, Летери с бабкой уже спустились с печки, Отвар стоял на углу стола, а Иргиаро в комнате отсутствовал. Больные спали, Йерр улыбнулась мне.
Все хорошо, Эрхеас. Их можно будить. Нам ведь надо идти в Старый дом?
Да, златоглазка моя.
— Летери, отправляйся в Треверргар. Сам в разговоры не вступай, только слушай. Все, что узнаешь — запомни как следует, до мелочей. Понял?
— Я бы это, — забормотал мальчишка, — Я бы у Годавы спросил, в смысле, она все знает, как есть, Годава, то есть…
— Донесет твоя Годава.
— Нет!
— Или проговорится. Для нас сие — одно и то же. Рисковать нельзя. Жизнью рискуем.
И — не своей. Но Летери понял. Получил от своей бабки какую-то снедь и побежал.
Малышка, потом пойдешь к вессарскому дому и возьмешь мальчика, когда он выйдет. Принесешь в Старый дом. Хорошо?
Конечно, Эрхеас.
Вернулся Иргиаро с подойником.
— Вот. Молоко.
— Молоко — это хорошо. Это — для больных. Сварим кашу. У тебя. Кастрюли там есть, наверху?
Иргиаро шевельнул бровями:
— Такие железные… горшки? Нет. У меня там вообще нет… того, что едят люди.
— Ладно. Во-первых, еда была в одном из твоих мешков. Во-вторых…
Я принялся собирать крупу и прочее безобразие.
Пробудилась Маленькая Марантина, зашуршала на лавке, села, протерла глаза, Иргиаро пошел к ней, они зашушукались. Маленькая Марантина пощупала щеку Иргиаро.
— У тебя небольшой жар. Больно?
Иргиаро неслышно ответил.
— Все в порядке, — сказал я, — Доберемся до места, сделаем перевязку.
— До какого места? — она сморщилась, видимо, губы болят, надо обработать анестезирующей мазью…
Иргиаро тихонько объяснял, что здесь нельзя больше оставаться, и поэтому…
Я подошел:
— Ты как?
Маленькая Марантина поднялась с лавки.
— Герен?
Я перехватил ее, усадил на табуретку.