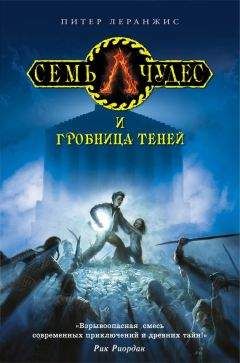Карина Демина - Хельмова дюжина красавиц (СИ)
— Отдыхай.
И Гавел подчинился.
Он падал в сон, проваливался долго, сквозь черноту, сквозь землю, пронизанную тонкими белыми корнями, а может и не корнями вовсе, но волосами женщины с бледным хищным лицом. Она вертела головой, чувствуя близость Гавела.
Не видела.
Пока не видела… но вот женщина подалась вперед, раскрывая пустые бельма глаз.
— Ты… — прошипела она, и лицо ее изменилось. Она стремительно постарела, превратившись в ту, которая…
— Бросил… бросил… — она тянула к Гавелу сухие руки с черными когтями. И он не смел не то, что увернуться — взгляда отвести. Старуха же подбиралась ближе. И Гавел знал, что если она прикоснется к нему, то его, Гавела, не станет.
Выпьют.
Вплетут в тонкие березовые корни.
Заставят беречь чужое клятое золото. И когда растопыренная пятерня почти коснулась Гавеловского лица, он не выдержал.
— Кыш, — Гавел вытянул руку, и пальцы сами собой сложились в некий знак, от которого плеснуло силой, огненной, ярой, сметшей и корни-волосы, и самое березу. — Кыш…
Сила вернулась, наполнив Гавела до краев.
Да так и осталась.
Наверное, это было правильно.
Он открыл глаза и увидел над собой низкий и косой потолок. Светлое некогда дерево от влаги и пара побурело, пошло янтарной слезой. И в ней Гавелу виделось собственное отражение.
Он больше не боялся.
И сила не исчезла.
Напротив, сила теперь была повсюду. В янтарных слезах давным-давно погибшей сосны, в квасе хлебном, в самом воздухе, в земле… в нем, в Гавеле.
— Живой? — со странным удовлетворением отметил Аврелий Яковлевич, протягивая флягу с заговоренным травяным настоем. — И молодец.
— Что вы…
— Нельзя, от одной колдовки не избавившись, к другой соваться.
А он избавился?
Выходит, что так… Гавел помнил старуху, помнил досконально, что лицо ее, изрезанное морщинами, которых не способна была скрыть маска пудры, что руки с длинными кривоватыми пальцами, что тело, пахнущее кислым молоком. Помнил голос визгливый и собственный, ныне необъяснимый перед нею страх…
Воспоминания не мешали.
— Вставай, — Аврелий Яковлевич руку протянул. — Нам еще собраться… и поужинать не мешало бы.
Гавел встал, покачиваясь не то от силы, не то от слабости.
Дурное состояние, хмельное, но он откуда-то знал, что пройдет. А за дверями бани смеркалось. И луна, полная, маслянистая, висела над самою крышей гостиницы, того и гляди, рухнет…
Луна звала.
Лихо слышал ее голос днем, мучительно стараясь отрешиться от него. Но луна звала. И нашептывала, что над серыми моховыми болотами ныне ветер разгулялся. Вольно ему.
И Лихо бы на волю.
Выпустить ту, другую, часть своей натуры… он же не волкодлак, а значит можно… и убивать не хочет, всего-то — перекинуться.
Малость какая.
А запахи станут ярче… их так много вокруг. И Лихо закрывал глаза, жадно подбирая каждый.
Сладковатый аромат цветов, в котором каждый бутон пахнет по-своему… пряный запах травы, омытой росами… земли… и куропатки, что сидела на гнезде… собак… эти боялись… людей, лошадей, сена… целого мира в этакой удивительной мозаике.
От мира голова шла кругом.
…а там, на моховых пустошах открываются черные окна багны, выпуская бледнокосых водяниц. На вершинах кочек раскрываются мертвоцветы, полупрозрачные бледные цветы.
Лихо помнит?
Помнит тугие их стебли, которые не рвутся, но ломаются, брызжут едким красным соком, будто кровью. И отходит он плохо. И пахнет терпко, сладко.
Мертвоцветы собирают по полной луне, но перед самым рассветом, когда смыкаются тяжелые бутоны, росу внутри запирая…
…Лихо, Лихо…
Шепчет ветер.
Луна.
И та, которая сидит под разбитым молнией дубом. В руках ее — костяная свирель, в ногах ее — навья стая, и древний вожак в дырявой шкуре доходит последние дни.
Он жив лишь ее силой и ее волей, потому как не может стая без вожака. А ты тут, Лихо, в чужом мире, который тебя не примет, потому как больше ты не человек…
…и криво усмехается Волчий Пастырь, идет по багне, опираясь на кривоватую клюку, а на воде остаются вдавленные следы… и тебе надобно за ним…
…или же к ней.
Выбирай, Лихо!
— Нет! — он вырывается из полусна-полуяви, слетая на пол с узкого диванчика, падает, когтями впивается в паркет.
Выдыхает.
И заходится кашлем, потому как слишком много вокруг незнакомых ароматов, от которых хочется одного — бежать прочь.
…по влажной росе.
…по ломкому вереску, который уже выметнул лиловые колосья цветов.
…по прозрачному березовому лесу… и хмурому ельнику, что вырос на границе Серых земель живою стражей.
…по болоту, сухому мху, что выдержит немалый вес его, Лихо, нового тела… и луна, заглядывая в окошко, смотрит, как корчится на полу, пытаясь совладать с силой, человек.
Человек ли?
Луна улыбается. И в тенях ее проглядывает иное, смутно знакомое лицо.
— Нет, — Лихо все же удается встать. И глядя на собственные руки, которые все еще больше руки, нежели лапы, он судорожно выдыхает.
Усмиряет силу.
Аврелий Яковлевич обещался, да видно забыл свое обещание… или не забыл, но оставил Лихо наедине с собой, чтоб справился…
Правильно.
Если у Лихо у самого веры не достает, то чего о других людях говорить?
Он дошел до ванной комнаты и, склонившись над фаянсовым белым умывальником, вылил на голову кувшин холодной воды. Полегчало. Вода текла по волосам, по щекам, которые по самые глаза уже поросли светлою щетиной, по губам, и Лихо губы облизывал.
По шее.
За шиворот, успокаивая и охлаждая.
Выстоит.
У него иного выбора нет, потому как…
Он упер руку в зеркало и с кривоватой улыбкой, которой несколько мешали клыки, посмотрел на мизинец. На смуглой коже следом от родового перстня выделялся белый ободок.
Выстоит.
Хотя бы этой ночью, потому как без него не справятся…
Луна в окне нахмурилась, и ветер тронул пыльные гардины, но Лихо лишь встряхнул головой: некогда ему шепоток слушать. Дело ждет.
Богуслава очнулась на закате.
Низкая луна смотрела из зеркал. И сами зеркала раскрывались хельмовым чарованным лабиринтом, в котором клубилась сила. Тот, кто жил в Богуславе, эту силу черпал полными горстями…
Он сбрасывал запоры.
И раскрывал туманные пути, выпуская души.