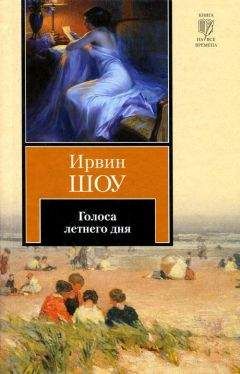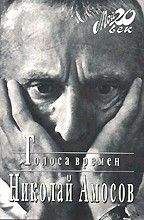Марина Дяченко - Ритуал
— А… какие они, женщины-драконы?
Арман молчал долго, и Юта поняла, что он так и не ответит.
— А вам бы хотелось… иметь братьев? — спросила Юта тогда.
Арман смотрел на море.
— У меня две сестры, — сказала Юта, будто раздумывая о чем-то. — у Вертраны, конечно, скверный нрав, но она по-своему любит меня. И я ее. А Май добрая и веселая, мне было бы одиноко, не будь у меня сестер… Мне и так одиноко.
Она вдруг улыбнулась своим мыслям:
— А знаете, когда мне было лет десять, я умела подстрелить из рогатки муху…
— Да? — удивился Арман. — А что такое рогатка?
Сладостно щурясь, Юта смотрела вдаль:
— Рогатка… Пажи, и поварята, и все детишки дворца ходили за мной табуном, и не видели, какая я дурнушка, им было плевать…
— Ну, — протянул Арман в нерешительности, — не такая уж…
Принцесса усмехнулась:
— Вам-то зачем деликатничать? Из-за моего уродства много слез пролилось. И моих, и чужих… Знаете, как бывает, когда ребятишки, повзрослев, вдруг увидят во вчерашней предводительнице — посмешище?
— Не знаю, — сказал Арман со вздохом.
— И не надо, — согласилась Юта. И тут же, без перехода, спросила: — А что такое промысел?
Арман смотрел, как рождаются над горизонтом облака, светлые, с округлыми мягкими боками и плоской подошвой внизу.
— Что такое промысел? — голос Юты дрогнул.
— Это, — медленно ответил Арман, — то самое, чем так прославились мои предки и в чем я совершенно не преуспел. Это древний обряд, связанный… ты уверена, что действительно хочешь об этом узнать?
— Я уверена, — чуть слышно пробормотала Юта.
Арман разминал кисть правой руки пальцами левой…
— …связанный с похищением и последующим пожиранием принцесс.
Юта не побледнела, не закричала и не закрыла глаза.
— Что ж, — сказала она после паузы, — чего-то в этом роде я ожидала.
— Действительно? — удивился Арман.
Красавцы-калидоны плавно кружили над гнездом, то и дело вяло покрикивая.
— Значит, — спросила Юта тихо, — и доблестный Сам-Ар, и сыновья его, и Лир-Ир, и Нур-Ар, и Дир-Ар, и сын его Акк-Ар…
— Как ты запомнила? — удивился Арман…
— …все они были людоедами? — прошептала Юта, не обращая на него внимания.
Арман размял кисть правой руки и принялся за локоть.
— Людоедами… Какое… неудачное слово.
Юта не слышала его. На лице ее застыла маска не страха даже, а отвращения.
— Я разбирала их письмена… Я читала летопись их жизни… Они… Я думала, они были могучие, славные… А они ели людей, к тому же женщин!
— Не женщин, а невинных девушек, — пробормотал Арман. — Принцесс.
Юта обернулась к нему, и глаза ее исполнены были горечи и гнева:
— И тот, кто написал на камне эти строки… «Я поднимаюсь к небесам, и моя тень лежит в скалах, маленькая, как зрачок мышонка»… Это написал людоед?
— Нет, — быстро сказал Арман. — Это я написал.
Она уставилась на него, позабыв закрыть рот.
— А я не людоед, Юта, — он сжал свой локоть до хруста, — я же сказал тебе, что не преуспел в промысле… Потому я выродок, потому я ничтожество, потому я себя презираю.
— Презираешь?! — от потрясения Юта перешла на «ты».
— Послушай, у всякого рода свои законы… Твои сородичи презирают тебя, потому что ты некрасивая. Это считается изъяном. А мой изъян — в другом… Я… Ну, когда я был юношей, то я… Мой дед мог перешибить мне хребет одним ударом своего хвоста… Он… Я боялся его сильнее смерти, но это… Послушай, что ты так в меня вперилась? Сам не знаю… зачем тебе это… конечно, неинтересно.
Желая сгладить мучительную неловкость от своих нелепых слов, Арман вдруг протянул руку и с силой зашвырнул в море обгоревший факел.
Этот совершенно неожиданный и, конечно же, не представляющий угрозы жест исторг из ее груди крик, который по силе мог сравниться с предсмертным.
Удобно устроившись перед надтреснутым зеркалом, они молча смотрели на неторопливо сменяющие друг друга картины дворцовой жизни.
Сновали озабоченные горничные, прачки развешивали для просушки огромный флаг с кошачьими мордами; на кухне дрались поварята, король беседовал с генералами, пажи играли в камушки на заднем крыльце. Норовистое зеркало то и дело ухитрялось втиснуть между вполне связными сценками какую-то чепуху; особую слабость оно питало почему-то к домашним животным и подолгу любовалось самыми разными подробностями из их жизни.
Крестьянка доила корову; дрались собаки, ковыляла по обочине утка, влача за собой целую вереницу утят. Потом мелькание, пестрая сумятица — и вот уже королева Верхней Конты прогуливается по парку в сопровождении фрейлины.
— Мама постарела, — тихо сказала Юта. Арман уловил в ее словах упрек и нахмурился.
Поверхность зеркала снова подернулась рябью, потом пошла цветными пятнами и, наконец, прояснилась. Юта воскликнула, оживившись:
— А это моя сестра Май!
Девчушка сидела в парке, на кромке фонтана с золотыми рыбками — как раз там, где Юта так любила беседовать сама с собой.
Арман тоже узнал принцессу Май — до чего хороша она была тогда, накануне карнавала, как шла ей шляпка с лодочкой! — и тяжело вздохнул.
— Она совсем на меня не похожа, — сказала Юта, — и хорошо. Правда?
Май пребывала в задумчивости. Рассеяно болтая рукой в воде и распугивая рыбок, она, казалось, не видела при этом ни фонтана, ни приближающуюся сестру Вертрану.
— Завтра устраивается купанье, — сказала Верта, подсаживаясь рядом на кромку. — Поедешь?
Май вытащила руку из воды. По ее пальцам скатывались прозрачные капли.
— Долго ты будешь всем показывать свое горе? — спросила Вертрана, понизив голос. — Неужели ты думаешь, что мне не жа…
Изображение заколебалось, помутнело и растаяло, а на смену ему после минутного мельтешенья пришло другое изображение — коровье стадо, забредя по колено в мелкую речушку, неспешно шевелило челюстями да хлопало хвостами по ребристым бокам.
— Та вторая — тоже твоя сестра? — спросил Арман.
Юта медленно кивнула.
Коровы не исчезали из зеркала минуты три; Юта смотрела мимо и думала о своем.
Потом зеркало снова помутнело, и сквозь этот туман проступили понемногу очертания птичьей клетки. В клетке вертелся крупный попугай, зеленый с красным; попугай беспрестанно болтал на только ему понятном языке, опасливо отодвигаясь от унизанной кольцами руки, которая норовила просунуть между прутьями решетки тонкий, холеный палец…
— …мна не по годам, — донесся из зеркала мужской голос, хоть рука, несомненно, принадлежала молодой женщине.