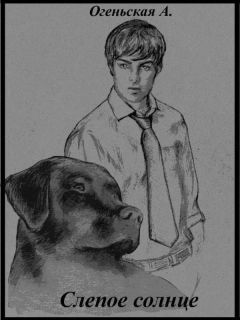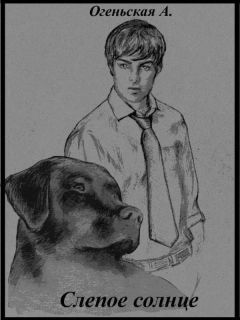Светлана Тулина - Лечь под Монарха
Они пили чай с титановым вареньем и болтали со звездами о жизни. О здоровье самих звезд и их многочисленных планет, о том, что тяжелые изотопы дорожают с каждым тысячелетием, а моральный облик молодых комет вообще упал ниже уровня городской канализации.
И звезды щедро делились с ними своим временем — ну сами подумайте, что такое для средней звезды три-четыре десятка каких-то там планетарных лет? И не юпитерианских даже, которые хоть заметить невооруженным глазом можно, а вообще настолько стремительных, что и говорить-то смешно!
Хотя, конечно, ничто не вечно под звездами, и сами звезды не вечны тоже, когда-нибудь, раньше или позже, появится огромная старая карга в белом балахоне и с огромной же косою наперевес, и оборвет жизнь очередного зазевавшегося светила. Так будет, кто спорит? Когда-нибудь. Но зачем же сейчас, ощущая в душе смутную радость от беседы с приятным пусть даже и почти человеком, а на губах — вяжущий привкус настоящего титанового варенья по рецепту еще бабушки нашей Вселенной, думать об этой скверной женщине в белом балахоне и ее не менее скверных привычках? И вовсе даже не надо о ней думать!..
Интересно, что большинство людей чуть ли не от начала времен отлично знали, что смерть — это женского рода. Значит, все-таки не так уж мало было среди них фильтров.
Хотя, конечно, и меньше, чем хотелось бы.
Но лишь фильтры знали, что смерть — вовсе не старуха, и не носит она косы.
Она носит короткую стильную стрижку и ослепительно белый брючный костюмчик. Настолько белый, что на него никогда не ложатся разноцветные отблески самых ярких реклам. У нее узкое темное лицо цвета полированного ореха, и светлые губы, словно два лепестка чайной розы в чашке горячего шоколада. У нее белые волосы — совершенно белые, без пергидрольной желтизны, серебристых проблесков седины или того мерзоидного оттенка сильно разбавленных чернил, которым обычно эту самую седину пытаются замаскировать. И ресницы тоже белые. Белые, вечно опущенные и очень пушистые — чтобы было чем гасить лазерные высверки глаз. У нее тонкие пальцы, затянутые в ослепительную белизну перчаток, и красивые очень ровные белые зубы. Их видно, когда она улыбается, а улыбается она постоянно.
У нее ослепительная улыбка.
И глаза у нее ослепительные — светло-светло-синие, словно линзы горного хрусталя, отшлифованные бархатной чернотой вечной межзвездной ночи. Линзы дальнобойного лазера…
И не нужна ей коса — ей вполне достаточно взгляда.
А еще она вовсе не старая. Даже по весьма разборчивым в этом вопросе ближневосточным понятиям.
Ей тринадцать.
Всего лишь тринадцать — или целых тринадцать, это уж как кто пожелает. Просто — тринадцать. Было всегда — и всегда будет. Потому что мертвые не растут.
А она родилась такою — тринадцатилетней и мертвой. Но это уже совсем другая история…
И она всегда будет рядом, если заклеймен ты звездой Йомалатинтис, и не важно, ложился ли ты для этого под Монарха или сам каким-то образом умудрился.
Иногда — чуть дальше, иногда — чуть ближе, но всегда — рядом. И лежащий на лицах голубоватый отблеск ее смертоносно прекрасных глаз очень быстро становится настолько привычным, что просто уже не замечается.
Они могли делать вид, что не видят ее в упор. Это нетрудно. Они даже могли притвориться, что ее вовсе не существует. Все равно они знали, что она — есть, и она — рядом. Когда она подходила слишком близко, и холодное ее дыхание начинало шевелить волосы на затылке — они просто останавливали время и по затвердевшему воздуху, как по ступенькам, убегали к далеким звездам.
Если успевали, конечно.
И она, улыбаясь, смотрела им вслед. Потому что знала — рано или поздно, но каждый — КАЖДЫЙ! — из них допустит ошибку. Зазевается. Поторопится. Не успеет…
И не важно, сколько придется ждать. Она никуда никогда не спешила, а ждать умела не хуже самих фильтров.
И голубое холодное сияние глаз ее сопровождало их даже на лунных дорогах…
Но однажды Юлли, один из самых младших, сказал, забравшись с ногами на крышку инициирующей капсулы в сейфе Реты:
— Послушайте! Мы же глупость делаем. Устраняем последствия, не задевая причины. Боль — только следствие. Симптом! Глупо ее фильтровать, не трогая смерть. А, значит, мы просто плохо работаем.
Так сказал Юлли, которому не было еще и ста реаллет, и Рета, старый опытный Рета не знал, что ответить на эти его слова…
Так вот он и начался, тот самый легендарный период, в существование которого сейчас уже не очень-то кто и верит. Его по разному называли, Золотым Веком в том числе. Не фильтры, конечно, а люди со свойственной людям неточностью. Поскольку был период этот гораздо короче века.
И не надо думать, что они не понимали неизбежного краха этой высокой идеи — как, впрочем, и любой другой из великого множества высоких идей! Все они понимали. Люди не смогли бы работать в полную силу, заранее зная, что все равно в конечном итоге ничего не получится. У них бы просто руки опустились. Но те, что когда-то легли под Монарха, не были больше людьми, они были фильтрами.
А фильтры не умеют опускать руки, если это не нужно для дела.
И они работали.
О, как они работали тогда! Как сумасшедшие, как черти, как… как фильтры.
И Синеглазой Смерти нечего было делать там, где они побывали…
Сперва она удивилась. Потом какое-то время снисходительно выжидала, надеясь, что они сами осознают всю абсурдность творимого ими. Или хотя бы просто устанут — они же не железные, в конце-то концов! Потом — впервые за свои вечные тринадцать лет — испытала нечто, очень похожее на неуверенность. Попыталась работать на опережение, стала спешить и наделала массу ошибок. Потом — исчезла. Только в районе Гиад погасло несколько звезд — и это, знаете ли, была очень даже неплохая попытка для безработной Смерти подыскать себе новое место…
Начал все это Юлли, самый младший и самый нетерпеливый.
Он же первым и был отстранен.
Сильная рука Реты легла на его запястье, снимая браслеты. Юлли вскинул было голову, намереваясь возразить самым решительным образом, но так ничего и не сказал. Потому что увидел зеркало.
Маленькое такое зеркальце, такие носил, как кулон, каждый уважающий себя фильтр. Для самоконтроля. И теперь Рета держал это зеркальце так, чтобы Юлли мог увидеть в нем свое юное лицо.
Слишком юное.
И Юлли отвел глаза.
— Покажи! — сказал Рета, возвращая браслет.
Юлли вздохнул, напрягся и остановил время. Но лунная дорожка, упав к нему под ноги, не затвердела ступеньками — замерцала жидким серебром, струясь и подергиваясь, а потом и вообще истаяла ртутной тенью.