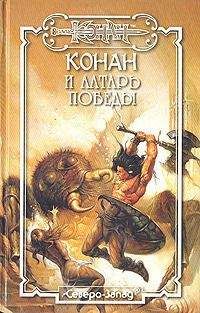Даниэл Уолмер - Чаша бессмертия
Они были очень похожи. Но те черты, которые в герцоге казались полунамеченными, в его дочери достигли полного расцвета. Герцог был вспыльчив и раздражителен, Зингелла — необузданна и горда до бешенства. Герцог был храбр, его дочь — азартна и безрассудна. Внешность Гарриго была благородной, хотя черты лица казались вылепленными излишне поспешно и грубовато. Зингелла обещала вырасти в подлинную красавицу.
Она была невысокого роста, но очень прямой и стройной. Черные волосы, обычно перевязанные на макушке алой лентой, падали на плечи и словно придавливали их своей тяжестью, настолько густыми и непроглядно смоляными они были. Чуть крючковатый нос и жесткое выражение блестящих глаз придавали лицу сходство с хищной птицей. Но капризно изогнутые губы были хороши и соблазнительны, как готовящийся распуститься пион. И без того худенькая, она затягивала платье в талии так, что казалась неестественно тонкой и ломкой, и носила высокие каблуки.
Гарриго и любовался, и гордился своей дочерью, и тревожился за нее. Не раз он замечал с усмешкой, что очень не завидует будущему мужу Зингеллы, и уж лучше тому обручиться сразу со львицей или с зеленой крокодилицей из мутных вод Стикса…
Когда герцог убедился, что слова безвестной нищей старухи всерьез смутили покой его гордой и бесстрашной дочурки, он принял все меры для ее успокоения. Перво-наперво он приказал отыскать старуху и привести к нему. В течение десяти дней дюжина его лучших воинов прочёсывала город и окрестности. Операцией руководили те пятеро стражников, которые видели оборванку в лицо и могли ее опознать. Двое воздыхателей, бывших с Зингеллой в то роковое утро, предложили свою бескорыстную помощь и также потратили немало времени, осматривая улицы, площади и задворки и приказывая поднять голову и подойти ближе каждой подозрительной нищей. Но все было тщетно. Наглая оборванка словно провалилась сквозь булыжную мостовую.
Убедившись, что казнить старуху и внести тем самым покой в растревоженную душу дочери невозможно, герцог пошел другим путем. Он обратился к той публике, которую до сих пор громогласно объявлял обманщиками, шарлатанами и вымогателями, то есть — к гадателям и звездочетам. В Кордаве, как, впрочем, и во всей Хайбории, такого сорта искателей легкого заработка водилось предостаточно. На сбежавшуюся к нему со всех ног — стоило только свистнуть — алчную свору пришлось потратить не один мешок с золотом, но безумные эти траты не достигли цели. Зингелла не только не успокоилась, но, напротив, пришла в еще большее смятение.
Да и как ей было успокоиться, если провидцы и собеседники звезд вещали разное. Часть из них действительно высмотрела опасность для юной дочери герцога, и опасность эта грозила от огня. Об огне намекали свежие потроха черной курицы с красным гребешком, зарезанной точно в новолуние, ибо они были неестественно багрового оттенка. О том же писали ласточки своими острыми крыльями на закатном небе, ровно в тот момент, когда гадатель, предварительно выбрив себе макушку и шепча заклинания, плевал по ветру. Зловеще имитировал вырвавшийся на волю огонь блеск магических кристаллов. В гороскопе девушки большинство планет сгрудились в знаках огня и в обители смерти…
Но другая часть оккультной братии, не менее многочисленная, утверждала, что никакой опасности нет, старуха ж — обыкновенная помешанная. Именно им готовый возрадоваться герцог отвалил больше всего золотых, после чего все они незаметно покинули пределы Кордавы и больше в ней не появлялись.
Наконец, третья часть ученых мужей находила некоторую опасность, но не от огня и не в столь юном возрасте. Кто-то пророчил, что Зингелле надо опасаться своего первенца, но не ранее, чем после рождения двенадцатого ребенка. Другой советовал никогда не предпринимать путешествия на корабле с четным количеством членов команды. Третий зловеще предостерегал от выполнения супружеских обязанностей после того, как ей исполнится пятьдесят три года…
Гарриго был на грани нервной горячки. Он разогнал всех гадателей, заперся в своей комнате и велел никого к себе не пускать. Но в его уединенный, обвешанный толстыми коврами покой все-таки проникал один тревожащий его звук. То был голосок его дочери, с каждым днем становящийся все более звенящим от напряжения, все более пронзительным от сдерживаемого ужаса.
Бледный и похудевший герцог снова открыл свои двери предприимчивым и алчным мудрецам. Правда, он вернул только тех, кто считал, что опасность от огня существует, и категорически потребовал от них точных рецептов избежания этой ужасной опасности. Мнения мудрецов разделились. Один требовал, чтобы Зингелла ежевечерне в течение полутора лет ложилась спать, укутавшись в только что спущенную, свежую шкуру теленка. Другой, с пеной на тонких губах, настаивал, чтобы трижды в день — на рассвете, в полдень и на заходе солнц — девушка сорок раз приседала и трижды поворачивалась вокруг своей оси. Третий рекомендовал принимать ванны из дельфиньего молока… Пятнадцатый настоятельно советовал ни под каким видом не прикасаться к собственной левой ноздре…
Ни пирушки с друзьями, ни взыскательные любовницы, ни военные или охотничьи нужды не отнимали у Гарриго такой уймы денег, что ушла ясновидцам и болтунам в течение какой-нибудь половины луны. Взамен же он получил нервное расстройство, потерю аппетита и стойкое отвращение к запаху тлеющего сандала.
* * *
В таком состоянии и застал его вздумавший навестить доброго приятеля Конан, бывший дикарь из северной Киммерии, теперь ж — корсар на службе Его Величества короля Зингары. Киммериец отличился в недавней битве с аргосской флотилией, за что король Фердруго предоставил ему нечто вроде отпуска. Сойдя на берег, Конан первым делом отправился в особняк Гарриго, поскольку тот не один раз приглашал его отведать отличного вина из его наследных погребов, славящихся по всей Кордаве.
Отношения между киммерийцем и знатным зингарским вельможей назвать дружбой было бы не совсем точно. Слишком разной была их сословная принадлежность, имеющая немаловажное значение во всех цивилизованных странах, а уж в Зингаре особенно. Но они питали друг к другу самые уважительные и добрые чувства. Конан не раз наблюдал Гарриго в бою, отмечая его горячую, бьющую через край отвагу, сочетающуюся с трезвостью рассудка. Не могло не нравиться киммерийцу и то, что знаменитая высокородная зингарская спесь смягчалась в герцоге природной естественностью и открытостью. Даже если он и не считал северного варвара ровней себе, в интонациях речи, с которой он обращался к Конану, это никак не проявлялось.